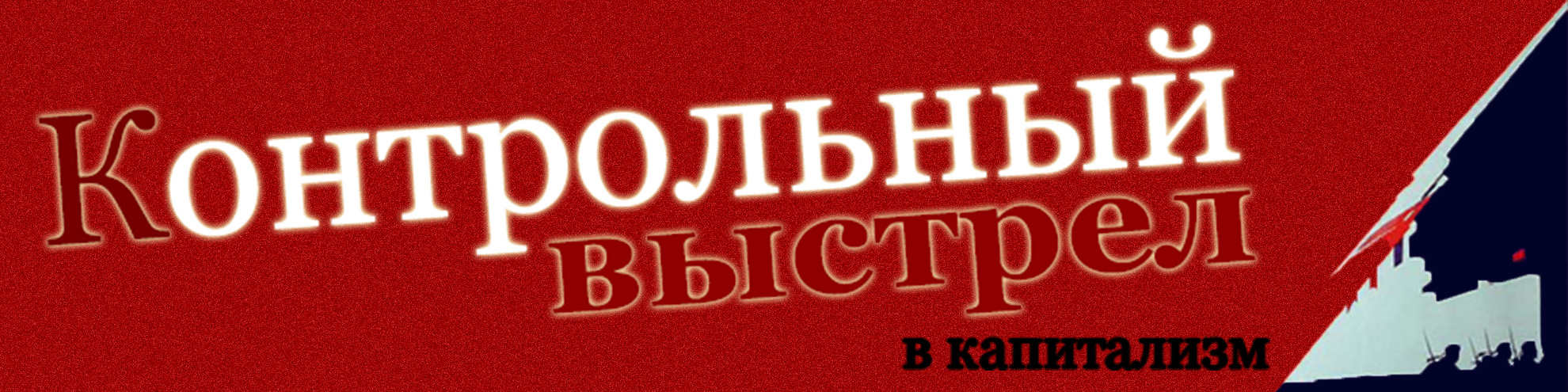Фридрих Энгельс.
РОЛЬ НАСИЛИЯ В ИСТОРИИ
Применим теперь нашу теорию к современной немецкой истории и к ее насильственной практике крови и железа. Мы ясно увидим из этого, почему политика крови и железа должна была временно иметь успех и почему она в конце концов должна потерпеть крушение.
Венский конгресс в 1815 г. так поделил и распродал Европу, что весь мир убедился в полной неспособности монархов и государственных мужей. Всеобщая война народов против Наполеона была ответной реакцией национального чувства, которое Наполеон попирал ногами у всех народов. В благодарность за это государи и дипломаты Венского конгресса еще более грубо попрали это национальное чувство. Самая маленькая династия имела большее значение, чем самый большой народ. Германия и Италия были снова раздроблены на мелкие государства. Польша была в четвертый раз разделена, Венгрия осталась порабощенной. И нельзя даже сказать, что с народами поступили несправедливо: почему они это допустили и зачем приветствовали русского царя ( - Александра I. Ред.) как своего освободителя?
Но так долго продолжаться не могло. С конца средних веков история ведет к образованию в Европе крупных национальных государств. Только такие государства и представляют нормальную политическую организацию господствующей европейской буржуазии и являются вместе с тем необходимой предпосылкой для установления гармонического интернационального сотрудничества народов, без которого невозможно господство пролетариата. Чтобы обеспечить международный мир, надлежит прежде всего устранить все, какие только возможно, национальные трения, каждый народ должен обладать независимостью и быть хозяином в своем собственном доме. И действительно, с развитием торговли, земледелия, промышленности, а вместе с тем и социального могущества буржуазии, начинался повсюду подъем национального чувства, а раздробленные и угнетенные нации требовали объединения и самостоятельности.
Революция 1848 г. везде, кроме Франции, была направлена поэтому на удовлетворение национальных требований наряду с требованиями свободы. Но позади буржуазии, которая в результате первого штурма оказалась победительницей, везде уже поднималась грозная фигура пролетариата, руками которого фактически была одержана победа, и это толкнуло буржуазию в объятия только что побежденного врага, в объятия монархической, бюрократической, полуфеодальной и военной реакции, от которой революция и потерпела поражение в 1849 году. В Венгрию, где обстоятельства сложились иначе, вступили русские и подавили революцию. Не довольствуясь этим, русский царь приехал в Варшаву и стал вершить там суд в качестве арбитра Европы. Он назначил свою послушную креатуру, Кристиана Глюксбургского, наследником датского престола. Он так унизил Пруссию, как она еще никогда не бывала унижена, запретив ей даже самые робкие поползновения к использованию в своих интересах стремлений немцев к единству, заставив ее восстановить Союзный сейм и подчиниться Австрии460. Весь итог революции свелся, таким образом, на первый взгляд к тому, что в Австрии и Пруссии установился конституционный по форме, но старый по духу образ правления и что русский царь стал властелином Европы в большей мере, чем когда-либо раньше.
В действительности, однако, революция могучим ударом выбила буржуазию из старой традиционной рутины даже в раздробленных странах, особенно в Германии. Буржуазия получила известную, хотя и скромную долю политической власти, а каждый свой политический успех она использует для промышленного подъема. «Безумный год»461, благополучно оставшийся позади, наглядно доказал буржуазии, что старой спячке и апатии должен быть раз и навсегда положен конец. Вследствие калифорнийского и австралийского золотого дождя и других обстоятельств наступило небывалое расширение мировых торговых связей и невиданное оживление в делах - следовало только не упускать случая и обеспечить себе свою долю. Крупная промышленность, основы которой были заложены с 1830 и особенно с 1840 г. на Рейне, в Саксонии, в Силезии, в Берлине и в отдельных городах Юга, стала теперь быстро развиваться и расширяться; домашняя промышленность сельских округов получала все большее распространение, шло ускоренными темпами железнодорожное строительство, а возросшая при этом до огромных размеров эмиграция создала германское трансатлантическое пароходство, не нуждавшееся ни в каких субсидиях. Немецкие купцы стали в больших, чем когда-либо ранее, масштабах обосновываться на всех заморских рынках, начали играть все большую роль в мировой торговле и постепенно обслуживать сбыт не только английских, по и немецких промышленных изделий.
Но для этого могучего подъема промышленности и связанной с ней торговли раздробленность Германии на мелкие государства, с их самыми разнообразными торговопромышленными законодательствами, должна была скоро превратиться в невыносимые оковы. Через каждые несколько миль иное вексельное право, иные условия для промышленной деятельности, повсюду каждый раз особые придирки, бюрократические и фискальные рогатки, а часто еще и цеховые барьеры, против которых не помогали даже официальные патенты! А к тому же еще многочисленные различные законодательства о правах местных уроженцев462 и ограничения в выдаче видов на жительство, лишавшие капиталистов возможности перебрасывать находящуюся в их распоряжении рабочую силу в достаточном количестве туда, где наличие руды, угля, водной энергии и других благоприятных естественных условий само побуждало основывать промышленные предприятия! Возможность беспрепятственной массовой эксплуатации отечественной рабочей силы была первым условием промышленного развития, но повсюду, куда патриотический фабрикант стягивал рабочих со всех концов, полиция и попечительство о бедных противились водворению пришельцев. Единое общегерманское гражданство и полная свобода передвижения для всех граждан страны, единое торгово-промышленное законодательство были теперь уже не патриотическими фантазиями экзальтированных студентов, а необходимым условием существования промышленности.
К тому же в каждом, в том числе и карликовом, государстве были разные деньги, разные системы мер и весов, часто даже по две и по три системы в одном государстве. И из всех этих бесчисленных разновидностей монет, мер и весов ни одна не была признана на мировом рынке. Неудивительно поэтому, что купцам и фабрикантам, имевшим дело с мировым рынком или вынужденным конкурировать с импортными товарами, приходилось наряду с большим числом своих монет, мер и весов пользоваться еще и иностранными; что хлопчатобумажная пряжа развешивалась на английские фунты, шелковые материи отмеривались на метры, счета для заграницы составлялись в фунтах стерлингов, долларах и франках! И как же могли возникнуть крупные кредитные учреждения на основе валютных систем с таким ограниченным распространением? Здесь - банкноты в гульденах, там - в прусских талерах, рядом золотой талер, талер «новые две трети», банковская марка, марка, находящаяся в обращении, двадцатигульденовая монетная система, двадцатичетырехгульденовая монетная система, - и все это при бесконечных перерасчетах и колебаниях курса463.
Если даже и удавалось в конце концов все это преодолеть, то сколько тратилось при всех этих трениях усилий, сколько терялось денег и времени! Между тем, и в Германии начали, наконец, понимать, что в наши дни время - деньги.
Молодая германская промышленность должна была показать себя на мировом рынке: вырасти она могла только на экспорте. Но для этого она должна была пользоваться на чужбине защитой международного права. Английский, французский, американский купец мог за границей позволить себе даже больше, чем дома. За него вступалось его посольство, а в случае необходимости и несколько военных кораблей. А немец? Австриец мог еще до известной степени рассчитывать на свое посольство на Ближнем Востоке - в других местах оно ему не очень-то помогало. Когда же прусский купец обращался на чужбине к своему послу с жалобой на причиненную обиду, то почти всегда получал ответ: «Так вам и надо! Чего вы здесь ищете? Сидели бы спокойно дома!» А подданный какого-нибудь мелкого государства и вовсе был повсюду совершенно бесправен. Куда бы ни приезжали немецкие купцы, они везде прибегали к иностранному покровительству - французскому, английскому, американскому - или должны были поскорее натурализоваться на новой родине. Впрочем, даже если бы их послы и пожелали вступиться за них, какой был бы от этого толк? С самими-то немецкими послами в заморских странах обходились, как с чистильщиками сапог.
Отсюда видно, что стремление к единому «отечеству» имело весьма материальную подоплеку. Это уже не были туманные порывы членов буршеншафтов на вартбургском празднестве464, когда «отвагой души немцев пламенели» и когда, как поется на французский мотив, «стремился юноша в кипучий бой, чтоб голову сложить за край родной» (Обе цитаты взяты из стихотворения Н. Хинкеля «Песнь Союза». Ред.), за восстановление романтического величия средневековой империи, - а на склоне лет сей пламенный юноша превращался в самого обычного ханжу, в преданного абсолютизму холопа своего государя. Это не был также уже гораздо более земной призыв к единству, провозглашенный адвокатами и прочими буржуазными идеологами гамбахского празднества465, которые воображали, что любят свободу и единство ради них самих, и не видели, что превращение Германии в кантональную республику по швейцарскому образцу, к чему сводились идеалы наиболее трезвых из них, так же невозможно, как и гогенштауфенская империя466 вышеупомянутых студентов. Нет, это было выросшее из непосредственных деловых потребностей стремление практического купца и промышленника вымести весь исторически унаследованный хлам мелких государств, стоявший на пути свободного развития торговли и промышленности, устранить все излишние помехи, которые немецкому коммерсанту приходилось преодолевать у себя дома, если он хотел выступить на мировом рынке, и от которых были избавлены все его конкуренты. Германское единство сделалось экономической необходимостью. И люди, которые его теперь требовали, знали, чего они хотят. Они воспитывались на торговле и для торговли, умели торговать и сторговываться. Они знали, что нужно побольше запрашивать, но и с готовностью идти на уступки. Они распевали об «отечестве немца» вместе со Штирией, Тиролем и «Австрийской державой, богатой победами и славой» (Из стихотворения Э. М. Арндта «Отечество немца». Ред.), а также: «От Мааса и до Мемеля, От Эча и до Бельта самого Германия всего превыше, На свете выше ты всего» ( Из «Песни немцев» Гофмана фон Фаллерслебена. Ред).
Но за уплату наличными они готовы были уступить изрядную долю - процентов 25-30 - того самого отечества, которое должно было становиться все шире467. План объединения был у них готов и мог быть немедленно осуществлен.
Но единство Германии было не только германским вопросом. Со времени Тридцатилетней войны уже ни одно общегерманское дело не решалось без весьма ощутимого иностранного вмешательства. Фридрих II завоевал в 1740 г. Силезию с помощью французов469. Реорганизация Священной римской империи в 1803 г., проведенная по решению имперской депутации, была буквально продиктована Францией и Россией470. Затем Наполеон установил в Германии такие порядки, которые отвечали его интересам. И, наконец, на Венском конгрессе под влиянием прежде всего России, а также Англии и Франции, она была снова раздроблена на тридцать шесть государств, включавших в себя двести с лишним обособленных больших и малых клочков земли, причем немецкие монархи, совсем как на Регенсбургском имперском сейме 1802-1803 гг.471, добросовестно помогали этому и еще более усилили раздробленность страны. Вдобавок, отдельные куски Германии были отданы иноземным государям. Германия оказалась, таким образом, не только бессильной и беспомощной, раздираемой внутренними распрями, обреченной на жалкое прозябание в политическом, военном и даже промышленном отношении, но, что еще гораздо хуже, Франция и Россия в силу укоренившегося обычая приобрели право на расчленение Германии, точно так же как Франция и Австрия присвоили себе право следить за тем, чтобы Италия оставалась раздробленной. Этим мнимым правом и воспользовался царь Николай в 1850 г., когда, бесцеремоннейшим образом воспрепятствовав всякому самовольному изменению конституции, заставил восстановить Союзный сейм, этот символ бессилия Германии.
Итак, единство Германии приходилось завоевывать не только в борьбе против германских монархов и других внутренних врагов, но и против заграницы. Или же - с помощью заграницы. Каково же было тогда положение за пределами Германии?
Во Франции Луи Бонапарт использовал борьбу между буржуазией и рабочим классом, чтобы с помощью крестьян подняться на президентское кресло, а затем с помощью армии - на императорский престол. Однако новый, возведенный на престол армией император Наполеон в границах Франции 1815 г. - это была мертворожденная затея. Воскресшая наполеоновская империя означала расширение Франции до Рейна, осуществление традиционной мечты французского шовинизма. Но на первых порах захват Рейна был не по силам Луи Бонапарту: всякая попытка в этом направлении привела бы к образованию европейской коалиции против Франции. Между тем, представился удобный случай поднять престиж Франции и покрыть армию новыми лаврами, предприняв с одобрения почти всей Европы войну против России, которая использовала революционный период в Западной Европе для того, чтобы втихомолку оккупировать Дунайские княжества и подготовить новую завоевательную войну против Турции. Англия заключила союз с Францией, Австрия доброжелательно относилась к обеим, и только героическая Пруссия продолжала целовать русскую розгу, которой ее еще вчера секли, и сохраняла дружественный России нейтралитет. Но ни Англия, ни Франция не хотели серьезной победы над противником, и война закончилась поэтому лишь незначительным унижением России и образованием русско-французского союза против Австрии.
Крымская война была единственной в своем роде колоссальной комедией ошибок, в которой перед каждой новой сценой спрашиваешь себя: кто же на этот раз будет обманут? Но эта комедия стоила несметных затрат и более миллиона человеческих жизней. Едва началась война, как Австрия вступила в Дунайские княжества; русские отступили перед австрийцами, и, таким образом, пока Австрия оставалась нейтральной, война с Турцией на сухопутной русской границе сделалась невозможной. Однако привлечь к войне на этой границе Австрию в качестве союзника было бы возможно только в том случае, если бы война велась серьезно, с целью восстановить Польшу и надолго отодвинуть назад западную границу России. Тогда вынуждена была бы примкнуть и Пруссия, через которую Россия еще получала все свои импортные товары; Россия оказалась бы блокированной и с суши, и с моря и скоро была бы побеждена. Но это не входило в расчеты союзников. Они были, наоборот, довольны тем, что миновала всякая опасность серьезной войны. Пальмерстон предложил перенести театр военных действий в Крым, чего желала сама Россия, и Луи-Наполеон очень охотно пошел на это. Война в Крыму могла остаться лишь показной, и в таком случае все главные участники были бы удовлетворены. Но император Николай вбил себе в голову мысль о необходимости вести там войну серьезную, забыв при атом, что если это место было наиболее благоприятным для показной войны, то для серьезной воины оно было самым неблагоприятным. То, что составляет силу России при обороне - огромная протяженность ее редко населенной, бездорожной и бедной вспомогательными ресурсами территории, - при всякой наступательной войне России обращается против нее самой и нигде это не проявляется в большей степени, чем именно в направлении Крыма.
Южнорусские степи, которые должны были стать могилой вторгшегося неприятеля, стали могилой русских армий, которые Николай с жестокой и тупой беспощадностью гнал одну за другой в Севастополь вплоть до середины зимы. И когда последняя, наспех собранная, кое-как снаряженная и нищенски снабжаемая продовольствием армия потеряла в пути около двух третей своего состава (в метелях гибли целые батальоны), а остатки ее оказались не в силах прогнать неприятеля с русской земли, тогда надменный пустоголовый Николай жалким образом пал духом и отравился. С этого момента война опять превратилась в показную и вскоре закончилась миром.
Крымская война сделала Францию руководящей европейской державой, а авантюриста Луи-Наполеона - героем дня, для чего, правда, не слишком много требовалось. Но Крымская война не принесла Франции увеличения территории и была поэтому чревата новой войной, в которой Луи-Наполеону предстояло осуществить свое истинное призвание - стать «приумножателем земель империи». Эта новая война уже была подготовлена во время первой тем, что Сардинии разрешено было примкнуть к союзу западных держав в качестве сателлита императорской Франции и специально в качестве ее форпоста против Австрии; война была, далее, подготовлена при заключении мира соглашением Луи-Наполеона с Россией472, которой больше всего хотелось наказать Австрию.
Луи-Наполеон стал теперь кумиром европейской буржуазии. Не только за совершенное им 2 декабря 1851 г. «спасение общества», которым он, правда, уничтожил политическое господство буржуазии, но лишь для того, чтобы спасти ее социальное господство; не только потому, что он показал, как всеобщее избирательное право можно при подходящих условиях превратить в орудие угнетения масс; не только потому, что в его правление торговля и промышленность, а особенно спекуляция и биржевые махинации достигли небывалого расцвета.
А прежде всего потому, что буржуазия признала в нем первого «великого государственного мужа», который был плотью от ее плоти, костью от ее кости. Он был выскочкой, как и всякий настоящий буржуа. «Прошедший сквозь огонь и воду» заговорщик-карбонарий в Италии, артиллерийский офицер в Швейцарии, обремененный долгами знатный бродяга и специальный констебль в Англии473, но всегда и везде претендент на престол, - он своим авантюристским прошлым и тем, что морально скомпрометировал свое имя во всех странах, подготовил себя к роли императора французов и вершителя судеб Европы, подобно тому как классический образец буржуа - американец - рядом подлинных и фиктивных банкротств готовит себя в миллионеры. Став императором, он не только подчинил политику интересам капиталистической наживы и биржевых махинаций, по и в самой политике всецело придерживался правил фондовой биржи и спекулировал на «принципе национальностей»474. Раздробленность Германии и Италии была для прежней французской политики неотчуждаемым сеньориальным правом Франции; Луи-Наполеон тотчас же приступил к розничной распродаже этого сеньориального права за так называемые компенсации. Он готов был помочь Италии и Германии избавиться от раздробленности при условии, что Германия и Италия за каждый свой шаг к национальному объединению заплатят ему территориальными уступками. Это не только давало удовлетворение французскому шовинизму и приводило к постепенному расширению империи до границ 1801 г.475, но и снова ставило Францию в исключительное положение просвещенной державы, освободительницы народов, а Луи-Наполеона - в положение защитника угнетенных национальностей. И вся просвещенная, воодушевленная национальной идеей буржуазия, - поскольку она была живо заинтересована в устранении с мирового рынка всех препятствий для торговли, - единодушно приветствовала эту просвещенную деятельность, несущую освобождение всему миру.
Начало было положено в Италии. Здесь с 1849 г. неограниченно властвовала Австрия, а Австрия была в то время козлом отпущения для всей Европы. Жалкие результаты Крымской войны приписывались не нерешительности западных держав, желавших только показной войны, а колеблющейся позиции Австрии, позиции, в которой, однако, никто не был более виновен, чем сами западные державы. Россия же была так оскорблена продвижением австрийцев к Пруту - благодарность за русскую помощь в Венгрии в 1849 г. (хотя именно это продвижение и спасло ее), - что была рада всякому нападению на Австрию. Пруссию не принимали больше в расчет и уже на Парижском мирном конгрессе ее третировали en canaille (- без всякого стеснения. Ред.).
Итак, война за освобождение Италии «до Адриатики», затеянная при содействии России, была начата весной 1859 г. и уже летом закончена на Минчо. Австрия не была выброшена из Италии, Италия не стала «свободной до Адриатики» и не была объединена, Сардиния увеличила свою территорию, но Франция приобрела Савойю и Ниццу и тем самым достигла своих границ с Италией 1801 года476.
Но это не удовлетворило итальянцев. В Италии тогда еще господствовало чисто мануфактурное производство, крупная промышленность была в пеленках. Рабочий класс был далеко не полностью экспроприирован и пролетаризирован; в городах он владел еще собственными орудиями производства, в деревне промышленный труд был побочным промыслом мелких крестьян-собственников или арендаторов. Поэтому энергия буржуазии еще не была подорвана существованием противоположности между нею и современным, осознавшим свои классовые интересы пролетариатом. А так как раздробленность Италии сохранялась только в результате иноземного австрийского владычества, под покровительством которого злоупотребления монархических правительств дошли до крайнего предела, то и крупное землевладельческое дворянство и городские народные массы стояли на стороне буржуазии как передового борца за национальную независимость. Но иноземное владычество в 1859 г. было сброшено повсюду, кроме Венеции; дальнейшему вмешательству Австрии в итальянские дела был положен конец Францией и Россией, - никто этого больше не боялся. А в лице Гарибальди Италия имела героя античного склада, способного творить и действительно творившего чудеса. С тысячей волонтеров он опрокинул все Неаполитанское королевство, фактически объединил Италию, разорвал искусную сеть бонапартовой политики. Италия была свободна и по существу объединена, - но не происками Луи-Наполеона, а революцией.
Со времени Итальянской войны внешняя политика Второй империи уже ни для кого не была тайной. Победители великого Наполеона должны были понести кару, но l'un apres l'autre - один после другого. Россия и Австрия уже получили свою долю, на очереди стояла теперь Пруссия. А Пруссию презирали теперь больше, чем когда-либо раньше; ее политика во время Итальянской войны была трусливой и жалкой, совсем как во время Базельского мира 1795 года477. «Политика свободных рук»478 довела Пруссию до того, что она оказалась совершенно изолированной в Европе, что все ее большие и малые соседи только радовались, предвкушая, как она будет разбита наголову, и что руки у нее оказались свободными только для того, чтобы уступить Франции левый берег Рейна.
Действительно, в первые годы после 1859 г. повсюду, и в первую очередь на самом Рейне, было распространено убеждение в том, что левый берег Рейна безвозвратно перейдет к Франции. Правда, перехода этого не очень-то желали, но его считали неотвратимым, как рок, и, откровенно говоря, не особенно боялись. У крестьян и городских мелких буржуа воскресали старые воспоминания о временах французского владычества, которое действительно принесло им свободу; а в рядах буржуазии финансовая аристократия, особенно кёльнская, была уже сильно запутана в мошеннических операциях парижского «Credit Mobilier»479 и других дутых бонапартистских компаний и громко требовала аннексии (Что таково было тогда всеобщее настроение на Рейне, в этом Марксу и мне не раз приходилось убеждаться на месте. Левобережные рейнские промышленники спрашивали меня, между прочим, как отразится на их предприятиях переход к французскому таможенному тарифу.).
Однако потеря левого берега Рейна означала бы ослабление не только Пруссии, но и Германии. А Германия была расколота в еще большей мере, чем когда-либо. Отчужденность между Австрией и Пруссией достигла крайней степени из-за нейтралитета Пруссии во время Итальянской войны; мелко-княжеское отребье боязливо и вместе с тем с вожделением посматривало на Луи-Наполеона как на будущего покровителя возобновленного Рейнского союза480, - таково было положение официальной Германии. И это в такой момент, когда только объединенные силы всей нации в состоянии были предотвратить опасность раздробления.
Но как объединить силы всей нации? Три пути оставались возможными после того, как попытки 1848 г., почти все без исключения носившие туманный характер, потерпели неудачу, и в силу именно этой неудачи туман несколько рассеялся.
Первый путь был путем подлинного объединения, посредством уничтожения всех отдельных государств, то. есть это был открыто революционный путь. Такой путь только что привел к цели в Италии; Савойская династия присоединилась к революции и таким образом присвоила себе итальянскую корону. Но на столь смелый шаг наши немецкие савойцы, Гогенцоллерны, и даже их наиболее решительные Кавуры a la Бисмарк были абсолютно неспособны. Все пришлось бы совершить самому народу, - и в войне за левый берег Рейна он, конечно, сумел бы сделать все необходимое. Неизбежное отступление пруссаков за Рейн, длительная осада рейнских крепостей и предательство южногерманских государей, которое затем, без сомнения, последовало бы, - этого было бы достаточно, чтобы вызвать такое национальное движение, перед которым разлетелся бы в прах весь этот династический порядок. И тогда Луи-Наполеон первым вложил бы шпагу в ножны. Вторая империя могла воевать только с реакционными государствами, по отношению к которым она выступала как преемница французской революции, как освободительница народов. Против народа, который сам был охвачен революцией, она была бессильна; к тому же победоносная германская революция могла дать толчок к низвержению всей Французской империи. Это был бы наиболее благоприятный случай; в худшем же случае, если бы владетельные князья оказались во главе движения, левый берег Рейна был бы временно отдан Франции, активное или пассивное предательство монархов было бы разоблачено перед всем миром, и создалось бы критическое положение, из которого для Германии не оставалось бы другого выхода, кроме революции, изгнания всех государей и установления единой германской республики.
При существовавших условиях на этот путь объединения Германия могла бы вступить только в том случае, если бы Луи-Наполеон начал войну за установление границ по Рейну.
Но этой войны не произошло - по причинам, о которых будет сказано ниже. А вместе с тем и вопрос о национальном объединении переставал быть неотложным жизненным вопросом, который следовало разрешить немедленно, под страхом гибели. Нация могла до поры до времени ждать.
Второй путь заключался в объединении под главенством Австрии. Австрия с готовностью сохранила в 1815 г. свое положение государства с компактной, округленной территорией, навязанное ей наполеоновскими войнами. Она не претендовала более на свои прежние отделенные от нее владения в Южной Германии и довольствовалась присоединением старых и новых территорий, которые можно было географически и стратегически связать с уцелевшим еще ядром монархии. Обособление немецкой Австрии от остальной Германии, начатое введением Иосифом II покровительственных пошлин, усиленное полицейским режимом Франца I в Италии и доведенное до крайних пределов ликвидацией Германской империи481 и образованием Рейнского союза, фактически сохранялось еще в силе и после 1815 года. Меттерних создал между своим государством и Германией настоящую китайскую стену. Таможенные пошлины не пропускали материальной немецкой продукции, цензура - духовной; невероятнейшие паспортные ограничения сводили личные сношения до крайнего минимума.
Внутри страна была застрахована от всякого, даже самого слабого, политического движения абсолютистским произволом, единственным в своем роде даже в Германии. Таким образом, Австрия оставалась совершенно чуждой всему буржуазно-либеральному движению Германии. В 1848 г. рухнули, в большей своей части, по крайней мере, духовные преграды между ними; но события этого года и их последствия отнюдь не могли способствовать сближению Австрии с остальной Германией; наоборот, Австрия все более и более кичилась своим положением независимой великой державы. И поэтому, хотя австрийских солдат в союзных крепостях482 любили, а прусских ненавидели и осмеивали, и хотя на всем преимущественно католическом Юге и Западе Австрия все еще была популярна и пользовалась уважением, никто все-таки серьезно не думал об объединении Германии под австрийским главенством, кроме разве нескольких коронованных правителей из мелких и средних германских государств.
Да иначе и не могло быть. Австрия сама ничего другого не хотела, хотя втихомолку и продолжала лелеять романтические мечты об империи. Австрийская таможенная граница стала с течением времени единственной материальной преградой, уцелевшей внутри Германии, и тем острее она ощущалась. Политика независимой великой державы не имела никакого смысла, если она не означала принесения в жертву интересов Германии специфически австрийским, то есть касающимся Италии, Венгрии и т. д. Как до революции, так и после нее Австрия оставалась самым реакционным государством Германии, наиболее неохотно вступавшим на путь современного развития; к тому же она была единственной сохранившейся специфически католической великой державой. Чем больше послемартовское правительство483 стремилось восстановить старое хозяйничанье попов и иезуитов, тем более невозможной становилась его гегемония над страной, на одну-две трети протестантской. И, наконец, объединение Германии под главенством Австрии было бы возможно только в результате разгрома Пруссии. Но если это последнее событие само по себе и не означало бы несчастья для Германии, то все же разгром Пруссии Австрией был бы не менее гибелен, чем разгром Австрии Пруссией накануне предстоящей победы революции в России (после которой этот разгром сделался бы ненужным, так как тогда Австрия стала бы ненужной и сама должна была бы распасться).
Короче говоря, германское единство под сенью Австрии было романтической мечтой, что и обнаружилось, когда германские мелкие и средние государи собрались во Франкфурте в 1863 г., чтобы провозгласить австрийского Франца-Иосифа германским императором. Король прусский просто не явился, и эта комедия жалким образом провалилась484.
Оставался третий путь: объединение под прусским верховенством. И этот путь, которым действительно пошла история, возвращает нас из области умозрений на твердую, хотя и довольно грязную почву практической «реальной политики»485.
Со времен Фридриха II Пруссия видела в Германии, как и в Польше, лишь территорию для завоеваний, территорию, от которой урывают, что возможно, но которой, само собой разумеется, приходится делиться с другими. Раздел Германии при участии иностранных государств и в первую очередь Франции - такова была «германская миссия» Пруссии, начиная с 1740 года. «Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les as me viennent, nous partagerons» (я, кажется, сыграю вам на руку; если ко мне придут козыри, мы поделимся) - таковы были прощальные слова Фридриха французскому послу, когда он отправлялся в свой первый военный поход486. Верная этой «германской миссии», Пруссия предала Германию в 1795 г. при заключении Базельского мира, заранее согласилась (договор от 5 августа 1796 г.) уступить левый берег Рейна французам за обещание территориальных приращений и действительно получила награду за свое предательство империи по решению имперской депутации, продиктованному Францией и Россией487. В 1805 г. она еще раз совершила предательство, изменив своим союзникам, России и Австрии, едва только Наполеон поманил ее Ганновером - на такую приманку она шла всегда, - но так запуталась в своей собственной глупой хитрости что была втянута в войну с Наполеоном и понесла под Йеной заслуженное наказание488. Продолжая находиться под впечатлением этих ударов, Фридрих-Вильгельм III даже после побед 1813 и 1814 гг. хотел отказаться от всех западногерманских форпостов, ограничиться владениями в Северо- Восточной Германии, отойти, подобно Австрии, как можно дальше от германских дел, - что превратило бы всю Западную Германию в новый Рейнский союз под русским или французским протекторатом. План не удался: вопреки воле короля ему были навязаны Вестфалия и Рейнская провинция, а с ними и новая «германская миссия».
С аннексиями теперь временно было покончено, не считая покупок отдельных мелких клочков земли. Внутри страны постепенно снова расцвели старые юнкерскобюрократические порядки; обещания ввести конституцию, сделанные народу в момент крайнего обострения положения, упорно нарушались. Но при всем том значение буржуазии все больше возрастало и в Пруссии, так как без промышленности и торговли даже надменное прусское государство было теперь нулем. Медленно, упорствуя, гомеопатическими дозами приходилось делать экономические уступки буржуазии. Но, с другой стороны, эти уступки давали Пруссии основание рассчитывать на то, что ее «германская миссия» будет поддержана, когда она в целях устранения чужих таможенных границ между обеими своими половинами предложила соседним немецким государствам создать таможенное объединение. Так возник Таможенный союз, который до 1830 г. оставался лишь благим пожеланием (в него вошел тогда только Гессен-Дармштадт), но в дальнейшем, по мере некоторого ускорения политического и экономического развития, экономически присоединил к Пруссии большую часть внутренних областей Германии489. Непрусские приморские земли оставались еще вне Союза и после 1848 года.
Таможенный союз был крупным успехом Пруссии. То, что он означал победу над австрийским влиянием, было еще далеко не самым важным. Главное заключалось в том, что он привлек на сторону Пруссии всю буржуазию средних и мелких германских государств. За исключением Саксонии ни в одном германском государстве промышленность не достигла хотя бы приблизительно такого уровня развития, как в Пруссии; и это было следствием не только естественных и исторических предпосылок, но и большего размера таможенной территории и внутреннего рынка. И чем больше расширялся Таможенный союз, втягивая мелкие государства в этот внутренний рынок, тем больше поднимавшаяся буржуазия этих государств привыкала смотреть на Пруссию как на свой экономический, а в будущем и политический форпост. Но что задумают буржуа, то скажут профессора. Если в Берлине гегельянцы философски обосновывали призвание Пруссии стать во главе Германии, то в Гейдельберге то же самое доказывали с помощью исторических ссылок ученики Шлоссера, в особенности Гейсер и Гервинус. При этом, конечно, предполагалось, что Пруссия изменит всю свою политическую систему, что она выполнит требования идеологов буржуазии («Rheinische Zeitung» обсуждала в 1842 г. с этой точки зрения вопрос о прусской гегемонии. Гервинус говорил мне уже летом 1843 г. в Остенде: Пруссия должна стать во главе Германии, но для этого необходимы три условия: Пруссия должна дать конституцию, ввести свободу печати и проводить более определенную внешнюю политику.).
Все это делалось, впрочем, не из какой-либо особой симпатии к прусскому государству, как, например, было у итальянских буржуа, которые признали ведущую роль Пьемонта, после того как он открыто стал во главе национального и конституционного движения. Нет, это делалось неохотно; буржуа выбирали Пруссию как меньшее зло, потому что Австрия не допускала их на свои рынки и потому что Пруссия, по сравнению с Австрией, все же имела, уже в силу своей скаредности в финансовых делах, до некоторой степени буржуазный характер. Два хороших института составляли преимущество Пруссии перед другими крупными государствами: всеобщая воинская повинность и всеобщее обязательное школьное обучение.
Она ввела их в период крайней нужды, а в лучшие времена довольствовалась тем, что, осуществляя их кое-как и намеренно искажая, лишила их опасного при известных условиях характера. Но на бумаге они продолжали существовать, и тем самым Пруссия сохраняла возможность развязать в один прекрасный день дремлющую в народных массах потенциальную энергию в таких масштабах, каких при такой же численности населения нельзя было достигнуть нигде в другом месте. Буржуазия приспособилась к обоим этим институтам; от личного отбывания воинской повинности вольноопределяющимся, то есть буржуазным сынкам, можно было около 1840 г. легко и довольно дешево избавиться за взятку, тем более что в самой армии не очень ценили тогда офицеров ландвера490, набранных из купеческих и промышленных кругов. А наличие бесспорно остававшегося еще в Пруссии - благодаря обязательному школьному обучению - довольно значительного числа лиц с известным запасом элементарных знаний было для буржуазии в высшей степени полезно; по мере роста крупной промышленности оно стало даже, в конце концов, недостаточно Даже во времена «культуркампфа»491 рейнские фабриканты жаловались мне, что не могут назначать надсмотрщиками превосходных во всех отношениях рабочих из-за отсутствия у них достаточных школьных знаний. Это особенно относилось к католическим местностям.). Жалобы на большие расходы по содержанию обоих этих институтов, выражавшиеся в высоких налогах («Средние школы для буржуазии». Ред.), раздавались главным образом среди мелкой буржуазии; входившая в силу крупная буржуазия рассчитала, что неприятные, правда, но неизбежные издержки, связанные с будущим положением страны как великой державы, с избытком окупятся возросшими прибылями.
Словом, немецкие буржуа не строили себе никаких иллюзий насчет прусской обходительности. И если с 1840 г. идея прусской гегемонии стала пользоваться среди них влиянием, то лишь по той причине и постольку, поскольку прусская буржуазия благодаря своему более быстрому экономическому развитию становилась экономически и политически во главе немецкой буржуазии и поскольку Роттеки и Велькеры давно уже имевшего конституции Юга стали оттесняться на задний план Кампгаузенами, Ганземанами и Мильде прусского Севера, адвокаты и профессора - купцами и фабрикантами. И в самом деле, среди прусских либералов последних лет перед 1848 г., особенно на Рейне, чувствовались совсем иные революционные веяния, чем среди либералов-кантоналистов Южной Германии492. Тогда появились две лучшие со времени XVI века политические народные песни: песня о бургомистре Чехе и песня о баронессе фон Дросте-Фишеринг493, нечестивым духом которых теперь, на старости лет, возмущаются люди, в 1846 г. весело распевавшие: И случилось же на грех, Что наш бургомистр Чех, - В этакого толстяка Не попал за два шага!
Но все это очень скоро должно было измениться. Разразилась февральская революция, за ней мартовские дни в Вене и берлинская революция 18 марта. Буржуазия победила без серьезной борьбы; бороться серьезно, когда до этого дело дошло, она вовсе и не хотела. Ибо та самая буржуазия, которая еще так недавно кокетничала с тогдашним социализмом и коммунизмом (особенно на Рейне), вдруг заметила теперь, что она вырастила не только отдельных рабочих, но и рабочий класс, - хотя и наполовину еще дремавший, но уже постепенно пробуждавшийся, революционный по самой своей природе пролетариат. И этот пролетариат, повсюду завоевавший победу для буржуазии, уже предъявлял - особенно во Франции - требования, несовместимые с существованием всего буржуазного порядка; в Париже 23 июня 1848 г. дело дошло до первой страшной битвы между обоими классами; после четырехдневного боя пролетариат потерпел поражение. С этого момента масса буржуазии во всей Европе перешла на сторону реакции, объединилась с только что свергнутыми ею с помощью рабочих бюрократами абсолютистами, феодалами и попами против «врагов общества», то есть против тех же рабочих.
В Пруссии это выразилось в том, что буржуазия предала ею же самой избранных представителей и со скрытым или откровенным злорадством наблюдала, как правительство разогнало их в ноябре 1848 года. Юнкерско-бюрократическое министерство, на целых десять лет утвердившееся теперь в Пруссии, вынуждено было, правда, править в конституционных формах, но мстило за это целой системой мелочных, небывалых до сих пор даже в Пруссии придирок и притеснений, от которых больше всех страдала буржуазия494. Но последняя смиренно ушла в себя, безропотно принимала градом сыпавшиеся на нее удары и пинки как наказание за свои былые революционные поползновения и постепенно привыкала теперь к мысли, которую впоследствии и высказала: а все-таки мы собаки!
Затем наступил период регентства. Чтобы доказать свою преданность престолу, Мантёйфель окружил наследника (- принца Вильгельма, впоследствии императора Вильгельма I. Ред.), нынешнего императора, шпионами совершенно так же, как Путкамер теперь окружает ими редакцию «Sozialdemokrat». Как только наследник сделался регентом, Мантёйфеля, естественно, выставили вон, и началась «новая эра»495. Это была только перемена декораций. Принц-регент соизволил разрешить буржуазии опять стать либеральной. Буржуа с удовольствием воспользовались этим разрешением, но вообразили, что они теперь господа положения, что прусское государство должно плясать под их дудку. Но это совсем не входило в планы «авторитетных кругов», выражаясь языком рептильной прессы. Реорганизация армии должна была быть той ценой, которой либеральным буржуа надлежало оплатить «новую эру». Правительство при этом требовало только фактического проведения в жизнь всеобщей воинской повинности в тех размерах, в каких она осуществлялась около 1816 года. С точки зрения либеральной оппозиции против этого нельзя было привести решительно ни одного возражения, которое не находилось бы в вопиющем противоречии с ее же собственными фразами о престиже и германской миссии Пруссии. Но либеральная оппозиция поставила как условие своего согласия законодательное ограничение срока военной службы двумя годами.
Само по себе это было вполне рационально; вопрос был только в том, можно ли этого добиться, готова ли либеральная буржуазия страны отстаивать это условие до конца, ценой любых жертв. Правительство твердо настаивало на трех годах военной службы, палата - на двух; разразился конфликт496. А вместе с конфликтом в военном вопросе внешняя политика снова приобретала решающее значение также и для внутренней политики.
Мы видели, как Пруссия окончательно лишилась всякого уважения в результате своего поведения во время Крымской и Итальянской войн. Эта жалкая политика отчасти находила себе оправдание в плохом состоянии прусской армии. Так как уже и до 1848 г. без согласия сословий нельзя было вводить новые налоги или заключать займы, а созывать для этого сословных представителей тоже не хотели, то на армию никогда не хватало денег, и от безграничной скаредности она пришла в полный упадок. Укоренившийся при Фридрихе - Вильгельме III дух парадности и шагистики довершил остальное. Какой беспомощной оказалась эта воспитанная на парадах армия в 1848 г., на полях сражений в Дании, можно прочесть у графа Вальдерзее. Мобилизация 1850 г. была полнейшим провалом: не хватало всего, а то, что имелось, большей частью никуда не годилось497. Вотированные палатами кредиты, правда, помогли делу; армия была выбита из старой рутины; полевая служба, по крайней мере в большинстве случаев, стала вытеснять парады. Но численность армии оставалась та же, что и около 1820 г., в то время как все другие великие державы, особенно Франция, со стороны которой как раз теперь угрожала опасность, значительно увеличили свои вооруженные силы. Между тем, в Пруссии существовала всеобщая воинская повинность; каждый пруссак был на бумаге солдатом, но при увеличении населения с 10 с 1/2 миллионов (1817 г.) до 17 с 3/4 миллиона (1858 г.) установленный контингент армии не позволял принять на службу и обучить больше одной трети годных к военной службе лиц. Теперь правительство требовало увеличения армии, почти в точности соответствовавшего приросту населения с 1817 года. Но те же самые либеральные депутаты, которые беспрестанно требовали от правительства, чтобы оно встало во главе Германии, охраняло престиж Германии по отношению к иностранным государствам, восстановило ее международный авторитет, - эти самые люди теперь скряжничали и торговались и ни за что не хотели дать свое согласие иначе, как на основе двухгодичного срока службы. Были ли они, однако, достаточно сильны, чтобы осуществить свое желание, на котором они так упорно настаивали? Стоял ли за ними народ или хотя бы только буржуазия, готовые к решительным действиям?
Отнюдь нет. Буржуазия приветствовала их словесные бои с Бисмарком, но в действительности она организовала движение, которое, хотя и бессознательно, фактически было направлено против политики большинства прусской палаты. Покушение Дании на конституцию Гольштейна, попытки насильственной данизации Шлезвига приводили в негодование немецкого буржуа498. К третированию со стороны великих держав он привык, но пинки со стороны маленькой Дании вызывали у него возмущение. Был основан Национальный союз499; его силу составляла как раз буржуазия мелких государств. А Национальный союз, при всем своем либерализме, прежде всего требовал национального объединения под руководством Пруссии, по возможности либеральной Пруссии, в крайнем случае - Пруссии как она есть.
Добиться, наконец, того, чтобы было ликвидировано жалкое положение немцев на мировом рынке как людей второго разряда, обуздать Данию и показать зубы великим державам в Шлезвиг-Гольштейне - вот чего прежде всего требовал Национальный союз. При этом требование прусского верховенства было теперь освобождено от всех тех неясностей и иллюзий, которые были еще свойственны ему до 1850 года. Было точно известно, что это требование означает изгнание Австрии из Германии, фактическое уничтожение суверенитета мелких государств и что и то и другое неосуществимо без гражданской войны и раздела Германии. Но гражданской войны больше не боялись, а раздел только подводил итог запретительной таможенной политике Австрии. Немецкая промышленность и торговля настолько развились, сеть немецких торговых фирм, охватывавшая мировой рынок, так расширилась и сделалась настолько густой, что система мелких государств у себя дома и бесправие и беззащитность за границей не могли быть долее терпимы. И в то самое время, когда сильнейшая политическая организация, какой только немецкая буржуазия когда-либо располагала, фактически выносила берлинским депутатам вотум недоверия, последние продолжали торговаться из-за срока военной службы!
Таково было положение, когда Бисмарк решил активно вмешаться во внешнюю политику.
Бисмарк - это Луи-Наполеон, французский авантюристский претендент на корону, перевоплотившийся в прусского захолустного юнкера и немецкого студента-корпоранта. Как и Луи-Наполеон, Бисмарк - человек большого практического ума и огромной изворотливости, прирожденный и тертый делец, который при других обстоятельствах мог бы потягаться на нью-йоркской бирже с Вандербилтами и Джеями Гулдами; да он и в самом деле весьма недурно устроил свои частные делишки. С таким развитым умом в области практической жизни часто бывает, однако, связана соответствующая ограниченность кругозора, и в этом отношении Бисмарк превосходит своего французского предшественника. Этот последний все же сам в годы своего бродяжничества выработал себе свои «наполеоновские идеи»500 - правда, они и были по его мерке скроены, - между тем, у Бисмарка, как мы увидим, никогда не было даже намека на какую-нибудь оригинальную политическую идею, он только посвоему комбинировал готовые чужие идеи. Но эта ограниченность и была как раз его счастьем. Без нее он никогда не умудрился бы рассматривать всю мировую историю со специфически прусской точки зрения; и будь в этом его ультрапрусском миросозерцании хоть какая-нибудь брешь, сквозь которую проникал бы дневной свет, он запутался бы во всей своей миссии и его славе наступил бы конец. И в самом деле, едва он выполнил на своей манер свою особую, предписанную ему извне миссию, как оказался в тупике; и мы увидим, какие скачки он вынужден был делать вследствие абсолютного отсутствия у него рациональных идей и его неспособности понять им же самим созданную историческую ситуацию.
Если Луи-Наполеона его прошлое приучило не стесняться в выборе средств, то Бисмарка история прусской политики, особенно политики так называемого великого курфюрста (- Фридриха-Вильгельма. Ред) и Фридриха II, научила действовать с еще меньшей щепетильностью, причем он мог сохранять облагораживающее сознание того, что остается в этом верен отечественной традиции. Свойственное ему практическое чутье учило его в случае нужды отодвигать на задний план свои юнкерские вожделения; когда же казалось, что надобность в этом исчезала, они снова резко выступали наружу; это было, конечно, признаком упадка. Его политическим методом был метод корпоранта: до смешного дословное толкование пивных обычаев, при помощи которых в студенческих кабачках принято выпутываться из затруднений, он бесцеремонно применял в палате по отношению к прусской конституции; все новшества, которые он ввел в дипломатию, заимствованы им из обихода корпорантского студенчества. Но если Луи-Наполеон в критические моменты часто колебался, как, например, во время государственного переворота 1851 г., когда Морни пришлось положительно силой заставить его довершить начатое дело, или накануне войны 1870 г., когда своей нерешительностью он испортил свое положение, то с Бисмарком, нужно признать, этого никогда не случалось. Сила воли никогда не покидала его, скорей она выливалась в прямую грубость. И в этом, прежде всего, кроется тайна его успехов. У всех господствующих классов Германии, у юнкеров, как и у буржуа, в такой степени иссякли последние остатки энергии, в «образованной» Германии настолько вошло в обычай не иметь воли, что единственный человек среди них, который действительно еще обладал волей, именно поэтому стал их величайшим человеком и тираном; он властвовал над всеми ими и перед ним они, вопреки рассудку и совести, по их собственному выражению, с готовностью «прыгали через палочку». Во всяком случае, в «необразованной» Германии так далеко дело еще не зашло: рабочий народ показал, что у него есть воля, с которой не справиться даже сильной воле Бисмарка.
Блестящее поприще открывалось перед нашим бранденбургским юнкером, которому нужно было только смело и умно взяться за дело. Разве Луи-Наполеон не потому стал кумиром буржуазии, что разогнал ее парламент, увеличив зато ее барыши? А Бисмарк разве не обладал теми же талантами дельца, которыми так восхищались буржуа в лже-Наполеоне?
Разве не тянулся он к своему Блейхрёдеру, как Луи-Наполеон к своему Фульду? Разве в Германии в 1864 г. не было противоречия между буржуазными представителями в палате, желавшими из скупости урезать срок военной службы, и буржуа вне палаты, в Национальном союзе, которые жаждали национальных подвигов во что бы то ни стало - подвигов, для которых нужна армия? Разве не точно такое же противоречие было во Франции в 1851 г. между буржуа в палате депутатов, обуздывавшими власть президента, и буржуа вне палаты, жаждавшими спокойствия и сильного правительства, спокойствия во что бы то ни стало, и разве Луи-Наполеон не разрешил это противоречие, разогнав парламентских крикунов и обеспечив спокойствие массе буржуазии?
Разве положение в Германии не было еще более благоприятным для смелого удара? Разве план реорганизации армии не был уже в совершенно готовом виде представлен буржуазией и разве сама она не выражала во всеуслышание желания, чтобы появился энергичный прусский государственный муж, который осуществил бы ее план, исключил бы Австрию из Германии, объединил бы мелкие германские государства под главенством Пруссии? И если бы пришлось при этом не слишком деликатно обойтись с прусской конституцией и отстранить парламентских и внепарламентских идеологов, воздав им по заслугам, то разве нельзя было бы, подобно Луи Бонапарту, опереться на всеобщее избирательное право? Что могло быть демократичнее, чем введение всеобщего избирательного права? Не доказал ли Луи-Наполеон его полной безопасности - при надлежащем с ним обращении? И не представляло ли как раз это всеобщее избирательное право такого средства, при помощи которого можно апеллировать к широким народным массам и слегка пококетничать с зарождающимся социальным движением в случае, если буржуазия проявит упорство?
Бисмарк взялся за дело. Надлежало повторить государственный переворот Луи - Наполеона, наглядно показать немецкой буржуазии действительное соотношение сил, насильственно рассеять ее либеральный самообман, но выполнить ее национальные требования, которые совпадали со стремлениями Пруссии. Повод для действия подал прежде всего Шлезвиг-Гольштейн. Со стороны внешней политики почва была подготовлена. Русского царя - Александра II. Ред.) Бисмарк привлек на свою сторону полицейскими услугами, оказанными ему в 1863 г. в борьбе против восставших поляков501; Луи-Наполеон также был обработан и мог оправдывать свое равнодушие, если не молчаливое содействие, по отношению к бисмарковским планам своим излюбленным «принципом национальностей»; в Англии премьер-министром был Пальмерстон, поставивший маленького лорда Джона Рассела во главе ведомства иностранных дел с единственной целью сделать его посмешищем. Австрия же была соперницей Пруссии в борьбе за гегемонию в Германии и именно в этом деле меньше всего была склонна уступить первое место Пруссии, тем более, что в 1850 и 1851 гг. она выступала в Шлезвиг-Гольштейне в качестве жандарма императора Николая, действуя фактически еще подлее, чем сама Пруссия502. Положение было, таким образом, в высшей степени благоприятным. Как ни ненавидел Бисмарк Австрию и как ни хотела бы Австрия, со своей стороны, сорвать свой гнев на Пруссии, все же после смерти датского короля Фредерика VII им не оставалось ничего другого, как совместно выступить против Дании - с молчаливого разрешения Франции и России. Успех был заранее обеспечен, пока Европа оставалась нейтральной; так и случилось: герцогства были завоеваны и уступлены по мирному договору503.
У Пруссии в этой войне была еще и другая цель - испытать на поле брани свою армию, которая с 1850 г. обучалась по-новому, а после 1860 г. была реорганизована и увеличена.
Армия сверх всяких ожиданий хорошо выдержала испытание, и притом в самой разнообразной военной обстановке. Что игольчатое ружье намного превосходит ружье, заряжающееся с дула, и что им умеют неплохо пользоваться, доказала стычка под Люнгбю в Ютландии, где 80 расположившихся за живой изгородью пруссаков своим частым огнем обратили в бегство втрое большее число датчан. Вместе с тем представлялся случай подметить, что австрийцы извлекли из Итальянской войны и из французского способа ведения боя только тот урок, что стрельба ничего не стоит и что настоящий солдат должен сразу же опрокинуть неприятеля штыком; это намотали себе на ус, так как более благоприятной неприятельской тактики перед дулами ружей, заряжающихся с казенной части, и желать нельзя было. И чтобы дать австрийцам возможность поскорее убедиться в этом на практике, завоеванные герцогства были по мирному договору переданы под общий суверенитет Австрии и Пруссии; таким образом было создано временное положение, которое не могло не стать источником бесконечных конфликтов и давало поэтому Бисмарку полную возможность избрать по своему усмотрению момент для использования одного из этих конфликтов как повода к генеральному выступлению против Австрии. При традиционной прусской политике - «без колебаний использовать до конца» благоприятную ситуацию, как выражается г-н фон Зибель, - было вполне естественно, что под предлогом освобождения немцев от датского гнета к Германии были присоединены около 200000 датских жителей северного Шлезвига. С пустыми руками остался только кандидат мелких германских государств и немецкой буржуазии на шлезвиггольштейнский престол герцог Аугустенборгский.
Так Бисмарк выполнил в герцогствах волю немецкой буржуазии против ее же воли. Он прогнал датчан, бросил вызов иностранным державам - и державы не шелохнулись. Но с только что освобожденными герцогствами стали обращаться, как с завоеванной страной, совершенно не интересуясь их желаниями: их просто временно поделили между Австрией и Пруссией. Пруссия снова стала великой державой, она уже не являлась пятым колесом в европейской колеснице; осуществление национальных чаяний буржуазии происходило успешно, но путь, избранный для этого, не был либеральным путем буржуазии. Прусский военный конфликт поэтому продолжался и становился даже все менее разрешимым. Предстоял второй акт бисмарковского лицедейства.
Продолжение следует
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2
том 21
РОЛЬ НАСИЛИЯ В ИСТОРИИ 419-479 |