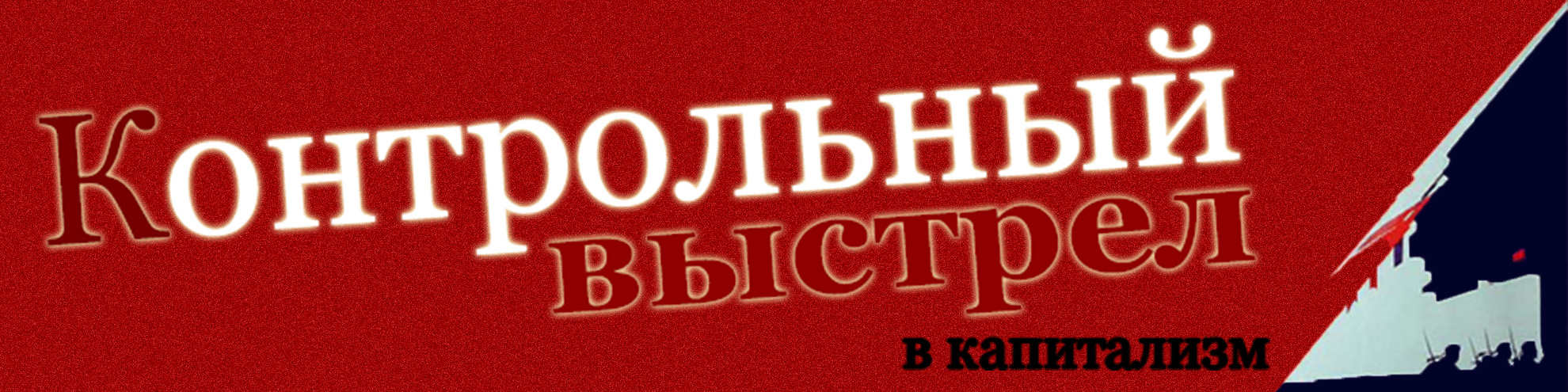Памяти
Александра
Александровича Фадеева знаменитого советского писателя, партизана,
большевика

Александр
Александрович
ФадеевО бедности и богатствеЭтой осенью исключили мы
из партии Николая Камкова, работника по лесному делу. Отец его, лесничий Иван
Степанович
Камков, был в свое время человек богатый, имел большую заимку и дом по
соседству с нашим селом Утесным, где теперь колхоз «Красный партизан».
Заимку забрали мы у них только в 1922 году, когда закрепилась в нашем
крае Советская власть. А самого старика не тронули за то, что в годы
войны прятал у себя партизан и славился в крае как ученый
лесовод. Исключили мы Николая Камкова за пьяный
дебош в колхозе. Приехал он осенью на побывку к отцу — отец и сейчас
лесничествует в наших местах — и как раз попал к празднику распределения
доходов. И тут это с ним случилось. Когда стали разбирать эту его историю,
вызвали и нас, выходцев из села Утесного, членов партии, разбросанных
по краю. Николку в юности нашей все мы хорошо знали и верили ему, а
после гражданской войны потеряли его из виду. А тут мы увидели, что и
раньше нельзя было верить ему, и даже удивились, как по тем временам
могли мы ошибаться в людях и как такой человек до сих пор продержался в
партии. В
прошлое время образование нам было
недоступно, и очень пленяло нас, мужицких детей, что сын известного
всему краю ученого барина, Николка Камков, водится и дружит с
нами. Как
только приедет он на побывку из
школы, сейчас ружье за плечи — и к нам. И уж целые недели и месяцы с
нами. Вместе и на поле, и по рыбу, и на охоту, и на вечерку, и из одной
миски едим, и одежду он носит такую же, как мы. По праздникам ходили мы
иной раз
стенка на стенку, — один край у нас был бедняковский, а другой
богатенький, — и всегда, помню, Николка Камков был с нашим, с
бедняковским. Он и в юности был большой, грузный; брови у него были
густые, голос как из трубы. Валит, бывало, всех подряд, пока не
соткнется с Мельниковым сыном Алексашкой Чикиным. Тот был ловкий,
быстрый и глазом и на руку, и чистый зверь. Уж если изловчится ударить,
бил в самые страшные места и без пощады. Бились они едва не по часу,
потом Камков первый протягивал руку. — Хватит. Уважаю, —
говорил он. — То-то, барин! — смеялся
Алексашка. — Да уж если по чести, я и сам не
против. Был
еще у нас такой мужичок, Гурьев
Антон, бродячий человек, еще по тем царским временам не признававший ни
бога, ни попов. Не было у него никакой скотинки, даже птицы, —
изба,
чуть прикрытая соломкой, без всяких пристроек и загорожи, стояла одна на
самом краю. Работы он никакой не признавал. «В том
одном, — говорил он, — я с господом богом нашим
Иисусом Христом
согласен», — и целыми месяцами не было его в селе. Работала
одна, без
кровинки в лице, работала и на чикинских и на камковских землях, жена
его, а детишки его — была их тьма — побирались. Вернется, бывало, Гурьев
Антон с
бродяжничества своего, ходит по селу чуть не в чем мать родила, голова
без шеи, прямо на плечах лежит, тулово короткое, ноги длинные, лицо в
рыжих клоках, важное — и все болтает. — Придет скоро великое
поравнение людей. Готовьтесь! — Какое такое поравнение,
Антоша? — Имущество хозяев земли делить будем
поровну. — Да нешто на всех хватит? Людей на земле,
поди, не мене, чем звезд на небе. — На одежду, на питание
хватит, а там будем все жить по-бедняковски, — важно говорил
он. С этим
Антошкой Гурьевым больше всего и
дружил Николай Камков, частенько у него и ночевал под стрешками на
чердаке. Напьются, бывало, оба, сидят, свесив ноги с избы. Антошка
невесть что несет, а Камков обнимает его и поет, весь в
слезах: …Россия, нищая
Россия, Мне избы бедные
твои, Твои мне песни
ветровые, Как слезы первые
любви. А и в самом деле, убогое было село
наше! От железной дороги двести верст, кругом тайжища, болота. Месяцами
сидели без керосина, без соли. В праздник под вечер идешь с охоты,
подойдешь к парому, а за рекой стон стоит над селом, — так
много пьяных.
Детишки лет по пяти — и то любили играть в пьяниц. И много было у нас
нещадной бедноты в
селе Утесном: Блинковы, Комлевы, Анчишкины, — да разве
перечислишь нас
всех, людей великого труда, горькой и злой жизни. Но была и у нас своя
тайная гордость за то, что своими руками проложили мы дорогу сюда,
раздвинули эти страшные леса, подняли горькую эту землю, несчетно побили
лютого зверя и сохранили совесть и пламя в сердце. И когда вернулись с
германского фронта первые наши солдаты-большевики, поняли мы, что
заслуживаем лучшей доли на земле. В гражданскую войну большая часть села
нашего пошла в партизаны. Пошли мы все — Блинковы, Комлевы,
Анчишкины, — несть нам числа. Пошел и Гурьев Антон. Пошел с
нами и
Николай Камков. Уже вот сейчас, когда разбиралось дело Камкова,
вспомнили мы, старые бойцы, что были у них, у Гурьева да у Камкова, и
тогда свои заскоки. Займем, бывало, усадьбу, мельницу, станцию, Гурьев
кричит: — Попалить все к чертовой
матери! Скажут ему: — Зачем палить? Это все мы сами
сделали, это все наше. Разъясни ему, Николай, раз ты образованный
человек при трудовом крестьянстве. А Камков задумается,
говорит: — А может, он и прав? Зачем нам все это?
Я, — говорит, — на себе испытал, что такое богатство и
сколь от него вреда на земле. Гражданская война многих из нас
поставила на настоящий путь. Как вспомнишь славных боевых
товарищей-друзей, где они, — а уж это все большие работники,
знатные
люди, люди с образованием. Колхоз мужики ставили уже без нас и бились не
хуже, чем мы в гражданской войне. Когда сковырнули Чикиных, долго еще
мешали жить их последки. А сколько горя хватили, пока научились честно
работать в колхозе на всех и на себя! Ведь столько отравы оставалось еще
в душе у каждого от старого времени. И кто же оказался среди ненавистников
колхоза нашего «Красный партизан»? Да Гурьев Антон! Может быть, он к
тому времени в хозяйстве оперился и было ему что терять? Нет, все такая
же стояла его изба, и работы он по-прежнему никакой не признавал, и сам
он остался, как был. Старшие сыновья и дочери от него отложились и ушли в
колхоз, а жена его, мытарша, померла, и взял он из неизвестных мест
раскулаченную вдову с четырьмя детьми. Борода его, торчащая клоками, как
у пса, поседела, и в глазах родилась злость. Целыми днями ходил он из
избы в избу и говорил прибаутками: — Здорово, работнички на
Советскую власть! Наработались всласть, а в брюхо нечего
класть? В
первые, трудные годы были люди, что
слушали его, а потом дела переменились. С тех самых статей, что в старое
время всегда были для нас несчастьем, открылось в колхозе новое
богатство — липовый мед с непроходимых лесов наших и рис, тяжелый и
белый, как сахар, с наших болот. И тут народ повеселел. Как раз совпало
так, что кончился постройкой тракт, что связал наше село Утесное с
железной дорогой и с морем. И стала черная, мокрая наша земля творить
чудеса. Пропал как-то Антон Гурьев на месяц,
вернулся, и все так и ахнули, у нас уже школу-десятилетку построили, а
он, бродячий человек, привез с собой попа. — Раз я в бога
уверовал, — говорит, —
имею я право церковь распечатать (церковь уже лет восемь стояла
заколоченная). А божьего человека привез я вам для совести, чтобы
совесть имели. Вот услышите из уст его, какому братству учил нас господь
наш Иисус Христос! Но поп на другой день сбежал. Надул
его Гурьев: сказал, что зовет по приглашению верующих, а верующие
ответили, что бог — он и так все видит и слышит. В тридцать четвертом году
вышел наш
колхоз на третье место в области. И вдруг засияли на весь край имена
наших людей. И не то было знаменито, что вновь прославились старые
бойцы, а знаменито было то, что новые люди вышли из самой неведомой
глуби, из самых безвестных фамилий, ничем не славившихся на селе ни в
старое время, ни в годы гражданской войны, ни после. Дед Максим Дмитриевич
Горченко, о
котором и в старое-то время не все знали, жив ли он или уже помер, дед,
весь век просидевший в своем хозяйстве возле десяти гнилых колодок,
вдруг несметно снял меда с колхозного улья и был назначен инспектором
над всей пасекой. Агафья Семеновна Блохина, бригадирша, — эту
фамилию
даже я в старое время не слышал, — дала со своего участка на
болоте
столько центнеров доброго риса, что по науке это никак не выходило. А
надо знать, что перед тем ушла она от мужа, прогульщика и пьяницы, с
грудным ребенком. И столько было молока в могучей груди ее, что за год
этот выкормила она не только своего, а и ребенка больной
соседки. И
много их таких, больших и малых,
поднялось у нас на селе в тот год. А там уж пошли расти просто
люди-красавцы. Главная красота их в том, что красуются они друг перед
другом трудом своим, и думают за всех, и уважают друг друга за труд и
ум. И ничего на свете уж не боятся эти люди. Да и по внешности жизнь стала краше.
Стали носить наши девушки башмаки на высоких каблуках. Стали завозить к
нам в село костюмы с галстуками, велосипеды, патефоны, радиоаппараты,
книги, игрушки для ребят — все то, что не есть главное в жизни, а
украшает ее. Тогда Гурьев Антон запел уже
по-другому. — Ага, разбогатели, —
говорит, —
колхознички? Забыли про равенство и братство? Люди, —
говорит, — должны
быть все равны, а вы что делаете? Вы вон в пиджаки позалезли, а я в
драных портах хожу! Скажут ему: — Кто ж тебе виноват? Иди работай с нами, и
воздается тебе по труду твоему. А он аж зубами ляскает от злости. Стали
смотреть на него, как на блажного. И вот осенью тридцать пятого года, в
год самого лучшего урожая у нас, появился в селе Николай Камков.
Давненько его не видели, работал он все годы где-то не в нашем крае.
Знали все, что человек он партийный, работает по лесному делу, и
обиделись на то, что не остановился он ни у кого из колхозников и даже у
отца не стал жить, а влез, по старой памяти, на чердачок к Антону
Гурьеву. Что их связывало — неизвестно, но все
дни до праздника ходили они под сильными парами. Камков весь опух, и вид
у него был какой-то потерянный. Председатель колхоза нашего, Петр
Федорович Блинков, рослый мужик, хорошей кости и красивый с лица, умный и
прямо бешеный в работе — в колхозе его зовут «царь Петр», —
встретил их
как-то на улице. — Что ты, — говорит, —
Николай Иванович? Али что потерял? Тот посмотрел на него из-подо лба,
говорит: — Молодость свою ищу, не видал
ли? — Каждый, брат, молод настолько,
насколько он себя чувствует, — засмеялся царь Петр. — Я
вроде и постарше
тебя, а все молодею, а тебя вон в какую дряхлость
кинуло! — Да, я вижу, здорово вы все зажирели
тут. Ответ
такой задел нашего царя Петра: — Как это прикажешь понять? — А так… Тоже,
поди, патефончик завел? — А что ж? У покойной мамаши твоей даже
фортепьяно водилось, да только нас, мужиков, туда не
пускали. — Слыхал? — спросил Камков у
Гурьева. Тот так и зашелся. — Они, —
говорит, — на этих штучках всю душу свою
проиграли! — Нет, — говорит царь Петр,
председатель колхоза нашего, — душа наша беспроигрышная, ей
цены нет. А
вот у вас вместо души — винный пар, вам бы проспаться. На колхозный обед пришел
Камков без Гурьева, совсем уже пьяный. Сначала, как полагается, премировали
народ и были речи, и очень все волновались. А потом уж народ подъел,
подпил, и пошли пляски, и стало весело. Видно, и Камков хватил какой-то
лишний стаканчик, тут из него и прорвалось. Встал он над столом,
грузный, глаза дикие, волосы, как на медведе, и начал
кричать: — Танцуете?! А Гурьева Антошку в курной избе
держите? Бедняцкую совесть свою в курной избе держите! Сначала было не поняли
его, видят —
кричит пьяный человек. А потом дед Максим Дмитриев Горченко, что сидел с
ним по соседству, обиделся. — Стыдно, — говорит, —
тебе, Николай
Иванович, кто же его в курной избе держит? Он сам сидит! А душа у него
давным-давно кулацкая, коли не хуже. Какая же бедняцкая душа может быть в
дармоеде? — Ага, дорвались до хлебца! Сыты
стали? — ревел Камков. Царь Петр по горячности своей не
выдержал да как закричит на него: — Ты с чьего голоса поешь?
Такие
песенки только троцкисты-бандиты поют! Не у них ли научился?! Ты небось
хотел бы, чтобы мы всю жизнь голодные сидели? Да чтобы всю жизнь на душе
у нас мрак был, а ты тем бы любовался? Камков к нему драться. Стали унимать Камкова, а к
нему подступиться нельзя. — Выходи, — кричит, — на
одну руку!
Зови сюда Алексашку Чикина, стенка на стенку пойдем! Зови его сюда, он
по людям соскучился! Он теперь самый неимущий! Когда он эту фамилию
назвал, сразу все
притихли: еще как раскулачивали, Алексашка Чикин убил секретаря
комсомольской ячейки и бежал, и до сей поры не было о нем ни слуху ни
духу. Пока
крутили Камкова, Сергей
Максимович Горченко, председатель сельского совета нашего, смекнул
послать людей к Гурьеву в избу, и там у него на чердаке обнаружили
мертвецки пьяного Алексашку Чикина. Был он весь грязный, в коросте, в
ужасной бороде: никакого человеческого облика в нем уже не
было. Когда
исключали Николая Камкова, все
время мы говорили: вот интересовался человек не нами, людьми, а
бедностью нашей, в слезах и стихах воспевал ее. А как стали мы
правомочными и полноправными на земле, рухнул весь его интерес, и он нас
возненавидел, и сам опустился до зверя. 1936
|