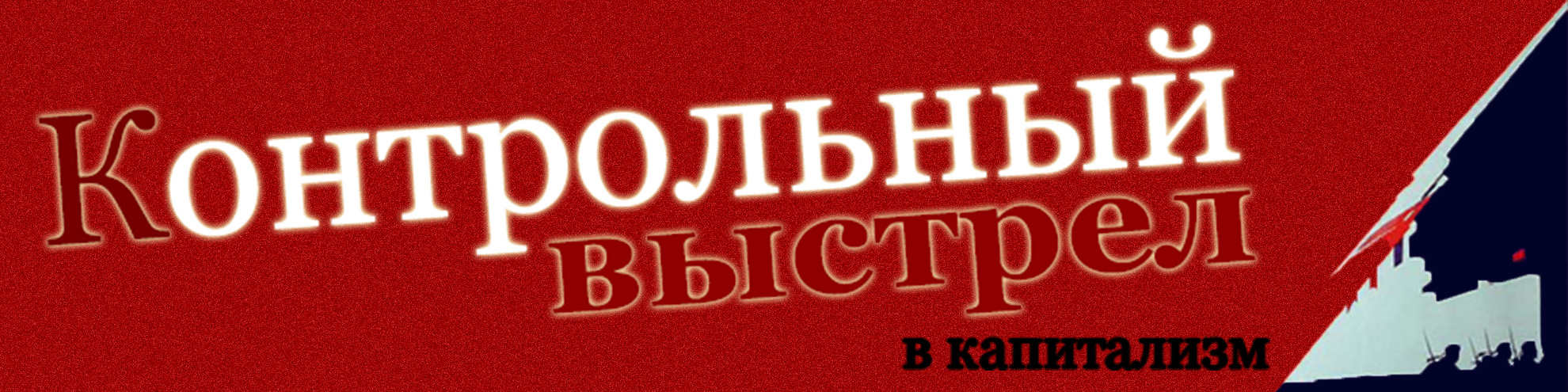Впервые напечатано в газете «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1923, № 78 и 79, 11 и 12 апреля.
Юбилей Островского надвигается1.
Сейчас время переоценки ценностей. Эта переоценка ведется двумя путями: одним — неправильным, другим — правильным.
Неправильный путь — это футуристический путь.
Общеевропейское явление футуризма, на ближайшей характеристике которого я
не буду останавливаться, повсюду отрекается от старины; и страшно
характерно, что, в то время как многие русские футуристы требуют отмены
академизма во имя коммунизма, итальянские футуристы почти сплошь стали
на сторону Муссолини и требуют как раз такой же отмены академизма, но во
имя фашизма. Это должно служить некоторым предостережением.
Я не то хочу сказать, что футуристы-коммунисты в
России не искренни. Наоборот, я полагаю, что те из футуристов, которые
искренне придут или пришли к коммунизму, постепенно освободятся
совершенно от всех футуристических гримас, выступят в качестве какой-то
совершенно новой формации, и указания на это уже имеются2.
Это между прочим, а по существу нашего вопроса надо
сказать, что отмена академизма или борьба со всем художественным прошлым
человечества, как буржуазным искусством, есть вредная нелепость, против
которой я всегда буду протестовать.
Совсем другое дело — серьезная марксистская
переоценка нашего культурного прошлого, — переоценка, которая заставляла
Маркса вновь и вновь с любовью перечитывать Шекспира, Гомера или
Бальзака и в то же время с едкой иронией относиться к многим
художественным кумирам буржуазии. Мы в
России должны пересмотреть наше культурное достояние под углом зрения интересов пролетариата, широко понимаемых.
Это — трудная задача. Этому помогают юбилеи, но, к
сожалению, у нас нет людей, совершенно свободных от другого дела и
способных в достаточной мере отдаться работе таких переоценок даже по
поводу юбилеев. Наша литературная критика еще очень слаба. У нас таких
критиков один-два, и обчелся. Например, тов. Воронский, с которым можно
соглашаться или не соглашаться в деталях, но который производит в
некоторой степени методическую работу, и, конечно, полезную, взялся за
нее только в самое последнее время, только, можно сказать, с краешка
подошел к ней, и притом с краешка наиболее активного, то есть разбора
литературы текущей.
Интересно остановиться при переоценке и на фигуре
Островского. Интересен он не столько сам по себе, — хотя и сам по себе
он чрезвычайно интересен, — сколько по ряду вопросов, касающихся театра и
драматургии, необычайно живых, страшно важных для роста нашей новой
культуры, которые поднимаются невольно в голове и сердце по поводу его
юбилея.
Островский с известным опозданием, а поэтому в иной
плоскости, повторил то, что во Франции сделал Мольер, а в Италии
Гольдони. Надо раз навсегда отвергнуть поверхностное представление о
литературе века Людовика XIV, как о литературе по преимуществу
придворной. Придворной она была единственно только по внешней форме. Она
делала уступки приютившему ее двору, часто внутренне ярко ненавидя его.
В самом деле, Мольер (менее очевидно, но не менее
верно это и относительно Расина) был самым подлинным буржуазным
писателем, высмеивавшим дворянство, заботливо указывавшим буржуазии на
ее собственные пороки, на опасности, которые окружают ее еще юный рост, и
воспевавшим ее добродетели.
Мольер вырос в огромную величину именно в силу того
закона, который я неоднократно указывал, — закона, так сказать, первого
захвата. Он являлся первым писателем не только во Франции, но, пожалуй,
даже во всей Европе (за исключением разве Англии, да и то с натяжкой),
который подошел к нравоописательной и нравоучительной драматургии от
имени нового великого класса, каким являласьтогда буржуазия.
Уже у Мольера заметны особенности, чрезвычайно
характерные для всякого гения, берущегося за эту классовую задачу во
время весны данного класса. Во-первых, он не только прославляет быт
своего класса, но в некоторой степени и преодолевает его. Многое в этом
быте кажется ему слишком плоским или, наоборот, слишком манерным. Он как
бы стремится очистить его от различных шлаков.
Во имя чего? Строя в своем сердце и в своем уме
известную чувством согретую идею о жизни своего класса, какою он хотел
бы ее видеть, — такой писатель не может не подойти близко к
общечеловеческим идеалам, то есть к таким идеалам, которые могут
говорить сердцу каждого, которые при своем осуществлении удовлетворили
бы всех и которые поэтому всенародны.
Не высказываю ли я при этом какой-нибудь
антимарксистской мысли? Конечно, нет, ни на одну минуту. Вспомните
Энгельса, который говорил о классических поэтах и великих идеалистах
Германии как о людях, нашедших подлинных своих наследников только в
пролетариате3.
Вспомните о том же Энгельсе, который по отношению даже к политической
идеологии французской буржуазии в конце XVIII века заявляет, что
буржуазия, став тогда во главе народных масс, без которых она не могла
добиться своей победы, вынуждена была написать на своем знамени общенародные идеалы, от которых позднее она, конечно, отказалась и которые, конечно, на практике она значительно исказила4.
И то же с еще большей силой высказывал Энгельс5,
да и Маркс, по поводу французских материалистов XVIII века, которые
тоже выражали интересы класса в его счастливую весну и тем самым близко
подошли к подлинной философии, той самой философии (а в других случаях —
культуре), которая является философией класса — пролетарского и
одновременно с тем единственно общечеловеческой.
До Мольера во Франции, как и в Италии до Гольдони,
существовал в высокой степени «театральный» театр, значительно, однако,
чуждавшийся быта.
То же самое и с Островским.
Островский, конечно, — почти вся русская
драматургия. Князь Одоевский, прочитавший его «Банкрота», позднее
названного «Свои люди — сочтемся!», писал: «Этот человек — талант
огромный. Я насчитываю в России три трагедии (sic!): «Недоросль», «Горе
от ума» и «Ревизор». На «Банкроте» я поставил № 4»6.
Если к этим трем номерам до Островского прибавить еще
«Бориса Годунова» и с натяжкой «Маскарад», то, в конце концов, это
действительно весь наш значительный русский театр.
А после Островского?
После Островского по причинам, о которых ниже, мы опять не имели значительного театра.
Мольер, Гольдони, Островский были замечательны тем,
что, выступая как представители нового класса, они глубоко
интересовались его бытом, старались его отразить во всей его кипучей и
свежей жизненности, старались его преодолеть в его темных и порочных
сторонах, старались, словом, «показать времени его зеркало» и,
«забавляя, поучать».
Как это старо, не правда ли? Это очень старо. И когда
о поучающем театре, или вообще о поучающем искусстве, когда о «зеркале
времени» говорит какой-нибудь беззубый академик, то действительно он,
пожалуй, может впасть в ужасающую, , безвкусную, распроклятую и
скучнейшую дидактику.
Но совсем другое дело, когда на арену выступают поэты нового класса с огромным запасом новых жизненных и этических воззрений. Тогда мы имеем как раз момент расцвета искусства.
Не характерно ли, что к началу войны7
повсюду, а в России в особенности, начался поворот от бытового театра к
театру «театральному», то есть исключительно стильному? Гоцци стали
любить больше Гольдони, комедию «дель арте» — больше Мольера.
Островского стали отстранять не ради даже тех или других пьес, а ради
тех или других постановок, открывавших перспективы чистой театральности.
В высшей степени ярким представителем такого
направления явился Таиров (правда, сейчас переживающий некоторый
перелом) со своим заявлением, что текст для театра не важен и драматург
играет в нем самую последнюю роль.
«Театральный» театр, театр, лишенный идейного
содержания и моральной тенденции, словом, по возможности не агитирующий
театр в оправдание свое может в конце концов приводить те соображения,
которыми вообще защищается теория искусства для искусства.
А теория эта всегда имеет только два исхода и никаких
других иметь не может. Либо под лозунгом «искусство для искусства»
таится искусство для развлечения людей, переставших интересоваться
серьезными сторонами жизни или, по крайней мере, переставших требовать
серьезности от искусства, либо какая-нибудь мистическая теория служения
чистой красоте как проявлению абсолюта.
Я очень хорошо знаю, сколько красивых слов можно
сказать и в защиту идеализма типа Шеллинга (подобные вещи у нас недавно
говорили и Вячеслав Иванов, и Сологуб, и другие), и в защиту чистого
веселья, чистого развлечения, чистой радости глаза, симпатии к прекрасно
движущемуся человеку и т. д.
Но все это, тем не менее, как раз является,
безусловно, старинкой, которую мы в общем и целом должны отвергнуть. Не в
том дело, чтобы мы думали, что театр должен держаться какого-то
будничного уровня и мелких задач. Наоборот, театр мелкой тенденции, театр повседневщины внушает
нам живейший ужас, но наш идеализм не имеет ничего общего ни с какими
потусторонними абсолютами и их выявлениями в красоте.
Неверно тоже было бы, если бы мы сказали, что
пролетариат хочет откинуть самодовлеющий смех, что он хочет совсем
забыть развлекаться. Вздор. Во-первых, элемент всякой игры, а поэтому и
развлечения, должен быть всегда присущ театру, но только как его
одеяние. Если за этим одеянием скрывается простой сухой манекен, то
всему этому все-таки грош цена, по сравнению с живым драматическим
организмом, хотя бы даже и не так к лицу одетым.
Поскольку же пролетариат и новый мир вообще будет
иметь, может быть, учреждения или вечера простого развлечения, он
никогда не смешает их с театром, как нельзя смешать, скажем, игру на
бильярде с работой инженера, творящего план какого-нибудь значительного
здания.
Несомненно, что идею «театрального» театра, в отличие
от литературного театра, от этического театра, развернули классы
упадочные. И буржуазия, и значительнейшие слои интеллигенции, вся
публика, доминирующая в театре, почти единственная в Европе и в Америке
публика, либо совсем перестала требовать серьезности от жизни за
вырождением и пустозвонством, как, например, какие-нибудь модничающие
дамы и их кавалеры, как вся эта пестрая толпа паразитов, кочующая с
курорта на курорт, из одной блестящей столицы в другую, — либо не
требует этой серьезности от театра, заявляя откровенно, что художник
создан быть шутом и чесать пятки дельцу во время его досуга, когда он
уже ничего делового знать не хочет.
И отсюда для меня совершенно ясно, как дважды два, и
это подтверждается и нынешними первыми шагами пролетарской или
полупролетарской драматургии, что театр пролетариата не может не быть бытовым, литературным и этическим.
Конечно, время наше может потребовать особых приемов
бытоизображения, театральной компоновки и театральной пропаганды, но
суть тут должна быть та же. Вот почему мы так многому можем поучиться у
Мольера, Гольдони, Островского (конечно, и у Шекспира и некоторых других
драматургов, но это уже в другой плоскости), идя назад к Островскому не
только для того, чтобы оценить правильность основных баз его театра, но
еще для того, чтобы поучиться у него некоторым сторонам мастерства.
Просто же подражать Островскому значило бы обречь себя на гибель.
Пятидесятые, шестидесятые годы, когда развернулась
центральная деятельность Островского, конечно, являются годами
окончательного выступления буржуазии на первый план нашей жизни,
художественной и культурной.
Однако она выступала крайне своеобразно.
Если уже в конце XVIII века французская буржуазия,
совершившая революцию, очень скоро раскололась на непримиримые лагери,
имея на правом фланге монархически настроенных крупных буржуа, а на
левом фланге руссотианцев, террористов, даже коммунистов, как Бабеф, —
то тем более можно было ожидать этого в. России.
Русский капитал пер в виде Колупаевых и Разуваевых,
долго не желая снимать ни долгополого сюртука, ни сапог бутылками, долго
оставаясь верным своеобразно преломленному крестьянско-кулацкому
бытовому укладу.
А в то же самое время другое крыло русской буржуазии —
разночинец — выступало под красным знаменем и во главе своей колонны
поставило людей, подобных Чернышевскому, Добролюбову и Желябову.
Если я сказал, что у Мольера в XVIII веке мы видим не
только отображение быта, но и его преодоление, если я сказал, что у
Мольера встречаются то и дело общечеловеческие ноты (например, в
«Мизантропе» или «Тартюфе»), то это, конечно, не может не быть сугубо
верным для Островского.
Островский был типичным разночинцем. Правда, отец его
был чиновником, дослужившимся до дворянства, но дед его был духовного
звания, а сам он был «крапивным семенем», «стрекулистом», «канцелярской
косточкой». Его определили на 4 рубля жалованья сначала в один какой-то
суд, а затем в другой, и он медленно восходил со ступеньки на ступеньку
канцелярской иерархии.
И вот тут-то этот ясноокий чиновничек, малюсенький
чиновничек, пером своим копаясь в делах коммерческого суда и, навострив
уши, вслушиваясь в кляузы, жалобы, предложения взяток, которые со всех
сторон окружали его, пожал первую обильную жатву своей гениальной
наблюдательности.
Вскрылось перед нами деляческое Замоскворечье,
вскрылся перед нами постепенно этот темный мир, полный свежих сил и
богатых, тяжелых страстей, мир самодуров, жестоких, как феодальные
сеньоры, и грубых, как мужики, лицемеров, мошенников и в то же время
полных внешней благопристойности и благочестия.
Вскрылись за ними фигуры угнетаемых ими, загоняемых
ими в землю детей, у которых просыпалась искорка человечности и
стремления к какому-то неопределенному свету; фигуры безответных
страдалиц — жен и дочерей.
Быстро проникали его творческие глаза в души
искалеченных, то гордых, то униженных существ, полных глубокой
женственной грации или печально машущих надломленными крыльями высокого
идеализма.
Весь своеобразный мир, все великое здание,
воздвигнутое Островским, гримасничает перед нами, как готические соборы
своими каменными ликами, и, как кариатиды, впереди, в этом храме,
воздвигнутые русской тьме и русскому стремлению к свету, высятся три
страдальческие фигуры: актера Несчастливцева, пропойцы Торцова и
неверной купецкой жены Катерины. Из глубины их могучих грудей рвется
иногда почти смешной по своему формальному чудачеству, но такой
бесконечно человеческий вопль о выпрямленной жизни.
Островский любит этот быт, любит его за сочность,
многокрасочность его образов, любит, словно Колумб, который только что
открыл новую землю. Он и ненавидит его, ненавидит его как буржуа,
которым он все-таки на три четверти был, ненавидит, потому что в этом
русском буржуазном быте видит слишком много уродства, ненавидит и как
человек, настоящий человек, каким был все-таки на одну четверть, как
человек, который в нем уже проснулся и который готов порой отрицать этот
быт целиком, ради вдали мерцающих великолепных огней свободы, вольного
счастья, разумного бытия.
У Островского была, таким образом, великолепная почва под ногами. У него было что рассказать и было чему поучить.
То, о чем рассказал Островский, начинает отходить в
прошлое, и пьесы его, оставаясь глубоко художественными, превращаются
постепенно в исторические. То, что мог проповедовать Островский, когда
он хотел это делать сколько-нибудь конкретно, уже покрыто плесенью. Мы
переросли далеко его конкретные устремления. А то, что в нем осталось
живым, так называемый общечеловеческий его идеализм, страшно всеобщ и
поэтому почти ничего не в состоянии дать.
В этом смысле Островский мало может дать нашему дню; в
этом смысле Островский только великолепное прошлое, которое не надо
забывать.
Но важно то, что Островский принадлежит к тому
центральному массиву русской литературы, который создан был русской
интеллигенцией при ее пробуждении и на который мы должны опереться, если
мы хотим правильным путем идти вперед, разметав все позднейшие
наслоения с их многообразным декадентством, кладбищенски ли оно
кривляется вместе с какими-нибудь символистами, кривляется ли оно
шутовски или под «лжепроизводство» вместе с какими-нибудь футуристами.
Нам нужно искусство серьезное, нам нужно искусство, способное усвоить наш нынешний быт, нам нужно искусство, которое обратилось бы к нам с проповедью нынешних, только еще растущих этических ценностей.
Это трудно, я не отрицаю этого. Возьмем центральный класс — пролетариат.
Во-первых, способен ли он уже оказывать достаточное
давление на театр? Нет, по-видимому. Как публика, он в огромном
большинстве наших театров отсутствует, а где присутствует, —
присутствует немым гостем.
В первый период революции было несколько страшно
толкать маститые театры вперед из опасения разрушить их в тяжелое время,
между тем как они были передаточными аппаратами от богатого прошлого к
еще более богатому будущему, и не ради же, конечно, худосочных выдумок
различных изобретателей однодневок, предлагавших свои услуги, могли мы
опрокинуть все это наследие.
Пришли более спокойные времена, когда мы можем, когда мы должны потребовать от русского театра, от каждого посильно, от каждого по-своему, идти вперед.
Но, к сожалению, сейчас мы начинаем терять
экономическую власть над театрами, ибо появилась уже новая публика,
нэпмановская публика, к которой он приспособляется.
Оставим пока эту сторону дела. К этому больному
вопросу придется еще неоднократно вернуться. Факт несомненный, что
нэпмановская публика серьезного театра полюбить не может, что она на
пару дней может позабавиться той или иной штукой, которую потом бросит.
Нэпмановская публика требует раздетых женщин, кувыркающейся клоунады и
возможно больше неприличия на сцене. И будет большая беда, если эти
стороны, каким-нибудь образом соединясь с поверхностными революционными
лозунгами, захватят в мутное нэпмановское течение нашу прекрасную, но в
отношении вкуса, конечно, еще неустойчивую молодежь.
Но допустим, что пролетариат того или другого типа
приобрел бы решающее влияние на театр. Могла ли бы сейчас же
развернуться та бытовая и этическая драматургия, о которой я говорю? Не
знаю. Потребуется, очевидно, довольно много времени для этого.
Во-первых, пролетарский быт. В сущности говоря, его
нет. Быта своего пролетариат любить не может. Да и какой же это быт? Это
— одна сплошная мука. Единственным светлым островом пролетарского быта
является сам завод, то есть труд. Это большой источник для искусства, но
почти никак не применимый на сцене.
Конечно, тут кое-что сделать можно. Есть некоторые
интересные попытки («Паровозная обедня» Каменского, кое-что у Форрегера,
кое-что у Мейерхольда).
Конечно, за этими попытками последуют другие, гораздо
более логичные, гораздо более твердые, но, тем не менее, повторяю,
именно между театром и заводом больших мостов не перекинешь.
Если говорить теперь о том, что так прекрасно у пролетариата, о его борьбе с
буржуазией, то здесь мы имеем уже дело с другим факторами, остро
идейными, конечно, и притом слишком легко вливающимися в те формы, к
которым пролетариат не может не прибегать, — в формы митинга.
«Ткачи» Гауптмана, «Углекопы» Делле-Грацие8
и некоторые другие пьесы в значительной степени предуказали все
возможности в этом направлении. И как пролетарский домашний быт слишком
одноцветен для того, чтобы быть отраженным многообразно театром, так и
эта борьба в ее чисто пролетарских формах. Она может еще найти, конечно,
необыкновенно вдохновенное отражение на сцене, превышающее все, что до
сих пор было, но как только какой-то большой мастер один раз изобразит
во весь рост стачку или восстание, другим уже нечего здесь будет делать,
кроме эпигонского кропания, потому что, повторяю, это недостаточно
богато многообразием при всей своей огромной значительности.
Пролетарская этика? Поскольку она нужна пролетариату,
она выкована была в несколько нигде, кроме сердец человеческих, не
записанных максим.
Иллюстрировать их в театре можно, но и здесь
опять-таки возможно какое-то колоссальное произведение, основанное на
этих простых «красных прописях». И здесь нет источника для богатого творчества, в особенности в области театра, а та этика, которую пролетариат, конечно, несет с собою, которая должна обнимать все вопросы жизни, она
ведь еще не выработана даже и самим классом, даже его передовыми
идеологами, в здесь драматургу пришлось бы прокладывать целину,
пробивать своей творческой киркой каменную грудь совершенно
неразработанных проблем.
Следует ли из этого, что перспективы пролетарской
коммунистической драматургии более или менее безнадежны? Ни на одну
секунду! Надо только выйти за пределы чисто рабочего быта, то есть быта в
казарме, в квартире рабочего, на фабрике и заводе как таковых. Надо
коснуться вопросов революционного быта, надо суметь охватить
рядом с чисто рабочим моментом и моменты работы пролетариата вне
специфических рамок, — работы широко коммунистической. Красная Армия со
всем ее героизмом и со всеми ее внутренними конфликтами, гражданская
война, проводящая часто линию между любящими сердцами или даже поперек
одного и того же любящего сердца, ее слава, ее ужасы, работа по созданию
нового государственного аппарата, по поднятию хозяйства, мучительные
конфликты на этой почве, падения и подвиги, культурная работа, выработка
новой этики в муках содрогающихся сердец, отражение вечных вопросов
любви и смерти, властолюбивого эгоизма и высокой, но бездеятельной
жалости и т. д. и т. п. — в особых и бесконечно значительных гранях
нашей, ни на что прошлое не похожей, современности, — вот необъятные
темы, вот необъятные краски, вот необъятная сокровищница, из которой
должна черпать современная драматургия.
Уже есть нечто подобное в области поэзии. Уже можно
назвать с гордостью и некоторые произведения Маяковского, и некоторые
стихи Асеева, Третьякова, Николая Тихонова, Безыменского и некоторых
других поэтов.
Уже подходят к этому и наши беллетристы-прозаики.
Правда, они пишут непременно какими-то странными, нарочитыми красками:
все необыкновенно формально, напряженно, все неспроста. Проклятый
формализм, наследие выжившей из ума буржуазии, так крепко схватил даже
лучших среди интеллигентов, что они чуждаются простоты. Это ужасно. Это
приводит к тому, что, как я убедился в том, некоторые из лучших наших
беллетристов, пишущих якобы крестьянским языком, оказываются совершенно
непонятными для среднего рабочего и высокограмотного крестьянина,
непонятными, словно их произведения написаны на французском языке, в то
время как тут же рядом прочитанные для опыта страницы Гончарова понятны и
принимаются от первого слова до последнего.
Но за всем тем новый русский роман и новая русская
повесть обеими руками хватает в самой глубине хаотического, взвихренного
потока нашей жизни и часто поднимает в своих крепких руках изумительные
чудовища или сверкающие сокровища. Драматурги отстали больше всех. Это
не значит, что они не начинают нагонять, и я не думаю, чтобы в нашей
драматургии не было ничего достойного быть отмеченным, истолкованным,
поставленным под фокус общественного внимания.
Превосходна была идея устройства мастерской коммунистической драматургии.
А. Н. Островский для своего класса, для его более или
менее передового отряда, к которому принадлежал, затеял общество
русских драматических писателей и оперных музыкантов9. Сейчас это общество мирно живет и взимает с театров гонорары для своих членов.
То ли думал о нем Островский? Нет. Он говорил, что
оно должно сделаться средоточием нравственного содействия писателей
писателям, способствовать развитию репертуара, иметь центральную
библиотеку по драматургии, устраивать серии лекций по сценическому
искусству, выдавать премии за лучшие драматические сочинения, быть, так
сказать, наблюдательной станцией, умеющей чутко отразить все то, что
делается в драматургическом мире, и вовремя прийти на помощь, куда надо.
Пока, конечно, нигде в литературе не создали мы еще
подобного центра, но надо стремиться к созданию таких центров для
писателей-коммунистов и сочувствующих им писателей.
И, конечно, для такого общества драматургов необходим был бы и особый театр.
Некогда мне сию минуту писать о достигнутом
фактически в области театра, нашего прекрасного современного русского
театра, бесконечно богатого новыми исканиями, но, тем не менее, зияющего
определенной пустотой, отсутствием большого революционного театра,
строго построенного на началах, которые я здесь предлагаю вниманию
читателей, не подпадающего под влияние мятущегося и неустойчивого
футуризма и допускающего его только отчасти к сотрудничеству, ищущего
прежде всего в направлении содержания, в направлении современного быта и
рядом с этим, конечно, отражения глубоко родственных эпох прошлого или
попыток создать образы будущего, ищущего яркой, горячей, зажигательной
проповеди новых истин, а со стороны формы — необыкновенной простоты и
убедительности, которые, конечно, ни на минуту не отрицают подъема.
Пусть это будет скорее мелодрама и фарс с их яркими красками, невольными
слезами и откровенным хохотом, чем какая бы то ни была игра на нюансах
или головоломные выдумки людей, до того привыкших считать эпатирование
публики за настоящее искусство, что они уже не могут словечка в простоте
сказать, а все с ужимкой.
По поводу юбилея Островского следовало бы подумать
обо всем этом. Наш Островский, и больше чем Островский, наверно уже
где-нибудь в пути, может быть, уже родился, может быть, уже пишет. Но
нам не довольно одного индивидуального Островского; нам нужно полдюжины
Островских да две дюжины под-Островских для того, чтобы создать расцвет
театра и для нас самих и для Европы. Все объективные возможности к тому
есть.
Но, может быть, fie время задаваться такими
культурными задачами? Может быть, опять мы натолкнемся здесь на то же:
тут нужны деньги, а денег нет, деньги у нэпмана, а для того, чтобы
достать деньги у нэпмана, нужно играть для нэпмана и т. д.
Островский прорвал оцепенение русского театра и нашел
огромную публику, держась в теснейшей связи с великанами тогдашней
сцены — Щепкиным, Садовским и другими. А нас ждет еще более громадная
публика, правда, и сейчас еще экономически бедная, но богатая своим
политическим авторитетом, своим недавним, но таким героическим прошлым и
своим необъятным, еще более героическим будущим.
Я мало сказал здесь об Островском, больше по его
поводу, но это совершенно сознательно. Найдется много людей, которые
дадут более или менее исчерпывающие характеристики достоинств и
недостатков крупнейшего из русских драматургов. Я указал на важнейшее,
на то, чем он жив для нас.
В свой юбилей люди выходят из могилы и шепчут в
сердце каждого, а поэтому в конце концов гласят, как звонкая труба, о
том, что осталось от них живого. Много красот живых осталось от
Островского, но также одно глубинное, великое поучение. Он — крупнейший
мастер нашего бытового и этического театра, в то же самое время такого
играющего силами, такого поражающе сценичного, так способного
захватывать публику, и его главное поучение в эти дни таково:
возвращайтесь к театру бытовому и этическому и, вместе с тем, насквозь и
целиком художественному, то есть действительно способному мощно двигать
человеческие чувства и человеческую волю10.
1 Сто лет со дня рождения А. Н. Островского исполнилось 13 апреля 1923 года.
2 В первопечатном тексте и в первом издании «Литературных силуэтов» эта мысль имела продолжение:
«.
. . и указания на это уже имеются в первом номере журнала «Леф», по
крайней мере в поэме Маяковского, о которой я буду; писать особо.
Правда, здесь есть романтический хлам самого мистического характера
(воспоминания Петровского о Хлебникове) и очень много всякой
кувырколлегии, совершенно ненужной для серьезного искусства. Но все же
«Леф» есть продвижение футуризма к коммунизму, и коммунизм сумеет
перевоспитать футуризм. Только надо помнить, что и фашизм будет
воспитывать футуризм. Надо помнить, что эта новейшая формация
интеллигенции чрезвычайно легко подпадает под влияние любой доминирующей
силы. Благо ей, когда эта сила положительная, и горе ей, когда эта сила
отрицательная».
3 В
книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф.
Энгельс, отмечая падение интереса к историческим наукам и к философии в
кругах «образованной Германии», пишет: «И только в среде рабочего класса
продолжает теперь жить, не зачахнув, немецкий интерес к теории. . .
Немецкое рабочее движение является наследником немецкой классической
философии» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, стр. 317).
4 В
работе «Развитие социализма от утопии к науке» Ф. Энгельс указывал, что
«наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией.
. . существовала общая противоположность между эксплуататорами и
эксплуатируемыми, богатыми тунеядцами и трудящимися бедняками» и что
«это обстоятельство и дало возможность представителям буржуазии
выступать в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а
всего страждущего человечества» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т.
19, стр. 190).
5 Во
введении к «Анти-Дюрингу» Энгельс писал: «Великие люди, которые во
Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали
крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было
рода они не признавали» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20, стр.
16).
6 Цитата
из «Письма князя В. Ф. Одоевского к приятелю-помещику» от 20 августа
1850 года («Русский архив», 1879, № 4, апрель, стр. 525).
7 Имеется в виду первая мировая война 1914—1918 годов.
8 Имеется
в виду четырехактная драма «Углекопы» («Schlagende Wetter») австрийской
писательницы Марии Делле-Грацие. В переводе на русский язык издана в
1903 году в Харькове.
9 Общество
русских драматических писателей и оперных композиторов возникло в
начале 70-х годов по мысли Островского и поддержавшего его театрального
критика В. И. Родиславского. А. Н. Островский был первым председателем
этого общества.
10 Основная
мысль статьи вызвала острую полемику в печати. По поводу этой полемики
Луначарский в статье «Несколько заметок о современной драматургии»
писал:
«Я
призывал как-то назад к Островскому. Сколько глупостей по этому поводу
было написано, так это уму непостижимо! Само собой разумеется, что
«левтерецы» (левые театральные рецензенты. — Ред. ). . . постарались сделать вид, будто понимают это, как вообще призыв назад. Конечно, ничего подобного; я звал не назад, а вперед и
находил, что яркая театральность, подчас по тому времени густо
общественная, насквозь правдивая, что смешная и горькая драматургия
Островского есть шаг вперед по сравнению с русской драматургией, какой
она стала после Островского...
Значит ли это, чтобы я
приглашал как можно больше ставить Островского? Конечно, хорошо
сыгранная пьеса Островского всегда не пустое место. Академические театры
должны постараться поставить нам Островского во всем его прежнем
блеске, дать нам как бы живой сколок со спектаклей времени Островского.
Но не в этом, конечно, дело, а в том, чтобы, оперевшись на Островского, пойти дальше, чтобы
постараться стать современным Островским и для этого поучиться у него.
Современный же Островский не только должен быть иным по содержанию, как
был бы сам Островский, если бы он сейчас жил и не одряхлел, но он должен
бы стать формально отличным от прежнего Островского. Однако — в
какой-то живой преемственности с прекрасной сценой прежнего Островского.
Вот о чем я говорил, и это абсолютно верно. Мы никуда от этого не
уйдем.
Для подлинной широкой публики, не говоря даже пока о
многотысячных массах пролетариев и крестьян, мы не создадим новой
драматургии, если не вступим на этот путь.
Самым же несчастным
способом идти назад к Островскому был именно тот, на который вступили
практически представители того направления, о котором теоретически
трещат «левтерецы»: брать старика Островского и самым разнообразным
родом искажать его, ставить в одном году четыре «Грозы», разделывая
прекрасное произведение Островского то под орех, то под мрамор, — это,
конечно, выдающийся пока затель драматического и отчасти театрального
оскудения нашего.
Высокодаровитому Мейерхольду удалось при
соответственной подстановке «Леса» дать несколько очень ярких моментов,
но это нисколько не меняет общего моего суждения о таком омоложении
Островского.
Театром Островского не омолодить. Пускай со сцены
говорит нам Островский, каким он был; он достаточно хорош, чтобы
сохранить свою художественную правоспособность. Омолодить Островского,
вернее, продолжить его новыми могучими молодыми побегами должна драматургия» («Художник и зритель», 1924, № 4—5, стр. 83—84).
Наследие А.В. Луначарского ☭