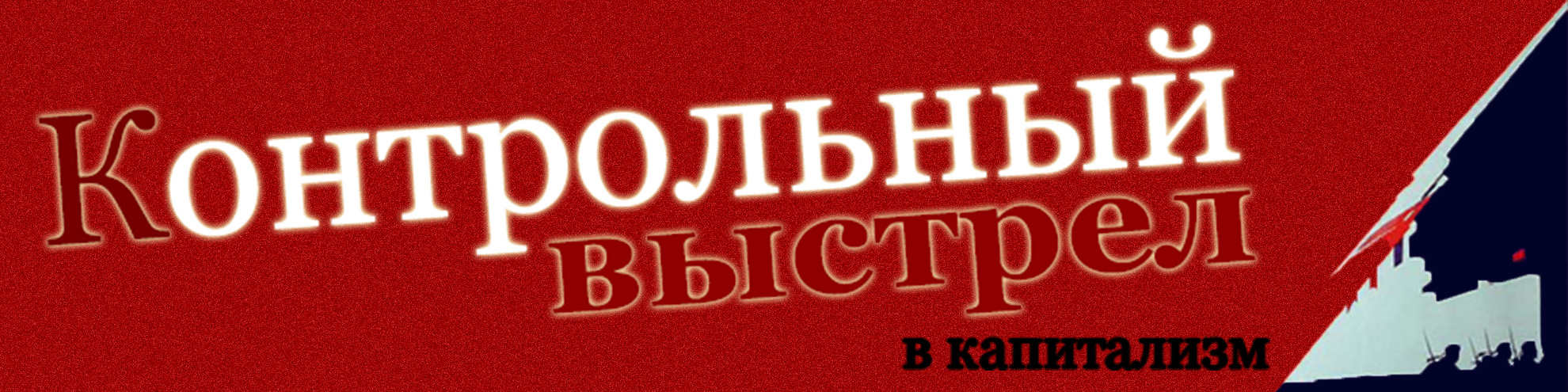|
Алексей Николаевич Толстой.
Хождение по мукам (книга 2)
* ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД *
В трех водах топлено, в трех кровях купано,
в трех щелоках варено. Чище мы чистого.
Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный
ветер гнал бумажный мусор - обрывки военных приказов, театральных афиш,
воззваний к "совести и патриотизму" русского народа. Пестрые лоскуты
бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со
снежными змеями поземки.
Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки
столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец,
пробитый сквозь крышу снарядом с "Авроры". Бежали в неизвестность члены
Временного правительства, влиятельные банкиры. знаменитые генералы...
Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины,
офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все
чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где
на витринах еще виднелись: там - кусочек сыру, там - засохший пирожок. Но
это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался
к стене, косясь на патрули - на кучи решительных людей, идущих с красной
звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.
Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие
подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце
семнадцатого года.
Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено.
Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе, с
ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они
ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии,
офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как
хочется - отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик
афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям
обитатели в валенках, в шубах, - заламывая пальцы, повторяли:
- Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему... Смерть!..
Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его
высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на
серый фасад, - стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из
настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом -
кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с
бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его
трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь... Это -
высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного
механизма!
Настает ночь. Черно - ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а,
говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах - свет. Над
истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых
крышах: "Быть нам пу-у-усту". И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет,
зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака?
Это горят винные склады... В подвалах, в вине из разбитых бочек,
захлебнулись люди... Черт с ними, пусть горят заживо!
О, русские люди, русские люди!
Русские люди, эшелон за эшелоном, валили миллионными толпами с фронта
домой, в деревни, в степи, в болота, в леса... К земле, к бабам... В
вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и
покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на
буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на
габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под
руку, - все пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и
барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа,
срезанная с вагонной койки. Не везли только денег - этот хлам не годился
даже вертеть козьи ножки.
Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в
изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным
ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели,
щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут
же прикончить прихвостня мировой буржуазии. "Давай паровоз!.. Жить тебе
надоело, такой-сякой, матерний сын? Отправляй эшелон!.." Бежали к
выдохшемуся паровозу, с которого и машинист и кочегар удрали в степь.
"Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!"
Три года тому назад много не спрашивали - с кем воевать и за что. Будто
небо раскололось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ понял: время
страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке - винтовка.
Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды.
За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной
пулемет, - лежи в дерьме, во вшах, покуда жив. Потом - содрогнулись,
помутилось в головах - революция... Опомнились, - а мы-то что же? Опять
нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, раньше мы были дураками, а
теперь надо быть умными... Повоевали, - повертывай домой на расправу.
Теперь знаем, в чье пузо - штык. Теперь - ни царя, ни бога. Одни мы.
Домой, землю делить!
Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя
позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные
города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, - это напильничками
отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам,
как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на
прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые
века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция. Октябрьская...
Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром
Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами,
город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный
мозг человеческий, - излучал в это время радиоволнами Царскосельской
станции бешеные взрывы идей.
- Товарищи, - застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в
финской шапочке задом наперед, - товарищи дезертиры, вы повернулись спиной
к гадам-имперьялистам... Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно,
товарищи... Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой
имперьялистическую войну!
- Лой... лой... лой... - лениво прокатилось по кучке бородатых солдат.
Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли
перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду
царя и - под мордой его куцей лошади - оратора в распахнутом пальтишке.
- Товарищи... Но мы не должны бросать винтовку! Революция в
опасности... С четырех концов света поднимается на нас враг... В его
хищных руках - горы золота и страшное истребительное оружие... Он уже
дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови... Но мы не дрогнем...
Наше оружие - пламенная вера в мировую социальную революцию... Она будет,
она близко...
Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой
надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не
замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то
фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой
она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды:
- ...Да ведь поймите же вы... через полгода навсегда уничтожим самое
проклятое зло - деньги... Ни голода, ни нужды, ни унижения... Бери, что
тебе нужно, из общественной кладовой... Товарищи, а из золота мы построим
общественные нужники...
Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой
досадой, он закашлялся - и не мог остановиться: разрывало легкие. Солдаты
постояли, качнули высокими шапками и пошли, - кто на вокзалы, кто через
город за реку. Оратор, полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому
граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко:
- Рублев, здорово.
Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки,
глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.
- Ну? Что надо?
- Да рад, что встретил...
- Эти черти, дуболомы, - сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом
очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же,
заеденные вшами, бородатые фронтовики, - разве их прошибешь? Бегут с
фронта, как тараканы. Недоумки... Тут нужно - террор...
Застуженная рука его схватила снежный ветер... И кулак вбил что-то в
этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся...
- Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо (Телегин отогнул воротник и
нагнулся к землистому лицу Рублева)... Объясните мне, ради бога... Ведь мы
в петлю лезем... Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде...
Понимаете, - я никогда не интересовался политикой...
- Это как так, - не интересовался? - Рублев весь взъерошился, угловато
повернулся к нему. - А чем же ты интересовался? Теперь - кто не
интересуется - знаешь кто? - Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. -
Нейтральный... враг народа...
- Вот именно, и хочу с тобой поговорить... А ты говори по-человечески.
Иван Ильич тоже взъерошился от злости. Рублев глубоко втянул воздух
сквозь ноздри.
- Чудак ты, товарищ Телегин... Ну, некогда же мне с тобой
разговаривать, - можешь ты это понять?..
- Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии... Ты слышал: Корнилов
Дон поднимает?
- Слыхали.
- Либо я на Дон уйду... Либо с вами...
- Это как же так: либо?
- А вот так - во что поверю... Ты за революцию, я за Россию... А может,
и я - за революцию. Я, знаешь, боевой офицер...
Гнев погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная
усталость.
- Ладно, - сказал он, - приходи завтра в Смольный, спросишь меня...
Россия... - Он покачал головой, усмехаясь. - До того остервенеешь на эту
твою Россию... Кровью глаза зальет... А между прочим, за нее помрем все...
Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертиров третью
неделю валяются по полу... Промитингуй с ними, проагитируй за Советскую
власть... Скажи: Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны... (Глаза его
снова высохли.) Скажи им: а будете на печке пузо чесать - пропадете, как
сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту... Продолби им башку
этим словом!.. И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, -
одна только Советская власть... Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее
нашей революции...
По обмерзлой лестнице в темноте, Телегин поднялся к себе на пятый этаж.
Ощупал дверь. Постучал три раза, и еще раз. К двери изнутри подошли.
Помолчав, спросил тихий голос жены:
- Кто?
- Я, я, Даша.
За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной
крюк. Слышно было, как Даша прошептала: "Ах, боже мой, боже мой". Наконец
открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села.
Телегин тщательно запер двери на все крючки и задвижки. Снял калоши.
Пощупал, - вот черт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянул перед
собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша.
- Вот безобразие, - сказал он, - опять не горит. Даша, ты где?
После молчания она ответила негромко из кабинета:
- Горело, потухло.
Он вошел в кабинет; это была самая теплая комната во всей квартире, но
сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся, - ничего не разобрать, даже
дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось
чаю. Но он чувствовал: Даша ничего не приготовила.
Отогнув воротник пальто, Иван Ильич сел в кресло у дивана, лицом к
окошку. Там, в снежной тьме, бродил какой-то неясный свет. Не то из
Кронштадта, не то ближе откуда-то, - щупали прожектором небо.
"Хорошо бы печурку затопить, - подумал Иван Ильич. - Как бы так
спросить осторожно, где у Даши спички?"
Но он не решался. Знать бы точно, что она - плачет, дремлет? Слишком уж
было тихо. Во всем многоэтажном доме - пустынная тишина. Только где-то
слабо, редко похлопывали выстрелы. Внезапно шесть лампочек в люстре слегка
накалились, красноватый свет слабо озарил комнату. Даша оказалась у
письменного стола, - сидела, накинув шубку поверх еще чего-то, отставив
одну ногу в валенке. Голова ее лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо
худое, измученное, глаз открыт, - даже глаз не закрыла, сидела неудобно,
неестественно, кое-как...
- Дашенька, нельзя же так все-таки, - глуховато сказал Телегин. Ему
совершенно нестерпимо стало жаль ее. Он пошел к столу. Но красные волоски
в лампочках затрепетали и погасли. Только и было света что на несколько
секунд.
Он остановился за спиной Даши, нагнулся, сдерживая дыхание. Чего бы
проще, - ну хоть погладить ее молча. Но она, как труп, ничем не ответила
на его приближение.
- Даша, не мучь же так себя...
Месяц тому назад Даша родила. Ребенок ее, мальчик, умер на третий день.
Роды были раньше срока, - случилось после страшного потрясения. В сумерки
на Марсовом поле на Дашу наскочили двое, выше человеческого роста, в
развевающихся саванах. Должно быть, это были те самые "попрыгунчики",
которые, привязав к ногам особые пружины, пугали в те фантастические
времена весь Петроград. Они заскрежетали, засвистали на Дашу. Она упала.
Они сорвали с нее пальто и запрыгали через Лебяжий мост. Некоторое время
Даша лежала на земле. Хлестал дождь порывами, дико шумели голые липы в
Летнем саду. За Фонтанкой протяжно кто-то кричал: "Спасите!" Ребенок
ударял ножкой в животе Даши, просился в этот мир.
Он требовал, и Даша поднялась, пошла через Троицкий мост. Ветром
прижимало ее к чугунным перилам, мокрое платье липло между ногами. Ни
огня, ни прохожего. Внизу - взволнованная черная Нева. Перейдя мост, Даша
почувствовала первую боль. Поняла, что не дойдет, хотелось только
добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь,
ее остановил патруль. Солдат, придерживая винтовку, нагнулся к ее
помертвевшему лицу:
- Раздели. Ах, сволочи! Да, смотри, брюхатая.
Он и довел Дашу до дому, втащил на пятый этаж. Грохнув прикладом в
дверь, закричал на высунувшегося Телегина:
- Разве это дело - по ночам дамочку одну пускать, на улице едва не
родила... Черти, буржуи бестолковые...
Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась говорливая акушерка.
Муки окончились через сутки. Мальчик был без дыхания - наглотался воды.
Его хлопали, растирали, дули в рот. Он сморщился и заплакал. Акушерка не
унывала, хотя у ребенка начался кашель. Он все плакал жалобно, как
котенок, не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А наутро
третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдернула руку - ощупала
холодное тельце. Схватила его, развернула, - на высоком черепе его светлые
и редкие волосы стояли дыбом.
Даша дико закричала. Кинулась с постели к окну: разбить, выкинуться, не
жить... "Предала, предала... Не могу, не могу!" - повторяла она. Телегин
едва ее удержал, уложил. Унес трупик. Даша сказала мужу:
- Покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же - у него волосики стали
дыбом... Один мучился... Я спала...
Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы
мальчика со смертью.
- Хорошо, Иван, я больше не буду, - отвечала она Телегину, чтобы не
слышать мужнина рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного,
несмотря на все лишения, "жизнерадостного" лица.
Телегинского здоровья с излишком хватало на то, чтобы с рассвета до
поздней ночи летать в рваных калошах по городу в поисках подсобной
работишки, продовольствия, дровишек и прочего. По нескольку раз на дню он
забегал домой, был необычайно хлопотлив и внимателен.
Но именно эти нежные заботы Даше меньше всего и были нужны сейчас. Чем
больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадежнее
отдалялась от него Даша. Весь день сидела одна в холодной комнате. Хорошо,
если находила дремота, - подремлет, проведет рукой по глазам, и как будто
ничего. Пойдет на кухню, вспоминая, что Иван Ильич просил что-то сделать.
Но самая пустячная работа валилась из рук. А ноябрьский дождик стучал в
окна. Шумел ветер над Петербургом. В этом холоде на кладбище у взморья
лежало мертвое тельце сына, не умевшего даже пожаловаться...
Иван Ильич понимал, что она больна душевно. Погасшего электричества
было достаточно, чтобы она приткнулась где-нибудь в углу, в кресле,
закрыла голову шалью и затихла в смертельной тоске. А надо было жить, надо
жить... Он писал о Даше в Москву, ее сестре Екатерине Дмитриевне, но
письма не доходили. Катя не отвечала, или с ней приключилось тоже
что-нибудь недоброе. Трудные были времена.
Топчась за Дашиной спиной, Иван Ильич случайно наступил на коробку
спичек. Сейчас же все понял: когда погасло электричество, Даша боролась с
темнотой, с тоской, зажигая временами спички. "Ай-ай-ай, - подумал он, -
бедняжка, ведь одна целый день".
Он осторожно поднял коробку, - в ней оставалось еще несколько спичек.
Тогда он принес из кухни заготовленные еще с утра дровишки, - это были
тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на
корточки, стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичом, с железной
трубой - коленом через всю комнату. Приятно запахло дымком загоревшейся
лучины. Завыл ветерок в прорезях печной дверки. Круг зыбкого света
появился в потолке.
Эти самодельные печки получили впоследствии широко распространенное
название "буржуек" или "пчелок". Они честно послужили человечеству во все
время военного коммунизма. Простые - железные, на четырех ножках, с одной
конфоркой, или хитроумные, с духовым шкафом, где можно было испечь лепешки
из кофейной гущи и даже пирог с воблой, или роскошные, обложенные
изразцами, содранными с камина, - они и грели, и варили, и пекли, и
напевали вековечную песню огня под вой метели.
К их горячим уголькам люди собирались, как в старые времена к очагу,
грели иззябшие руки, поджидая, когда запляшет крышка на чайнике. Вели
беседы, к сожалению никем не записанные. Придвинув поближе изодранное
кресло, профессора, обросшие бородами, в валенках и пледах, писали
удивительные книги. Прозрачные от голода поэты сочиняли стихи о любви и
революции. Кружком сидящие заговорщики, сдвинув головы, шепотом передавали
вести, одна страннее другой, фантастичнее. И много великолепных старинных
обстановок вылетело через железные трубы дымом в эти годы.
Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели ее глиной, подвешивал
под трубы жестянки, чтобы деготь не капал на пол. Когда вскипел чайник, он
вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан, послаще. Из другого
кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня (выменял за
варежки у инвалида на Невском), приготовил сладкий чай с лимоном и
поставил перед Дашей.
- Дашенька, тут с лимончиком... А сейчас я спроворю моргалку.
Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном
масле плавал фитилек. Иван Ильич принес моргалку, и комната кое-как
осветилась.
Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин, очень
довольный, сел поблизости.
- А знаешь, кого я встретил? Василия Рублева. Помнишь, у меня в
мастерской работали отец и сын Рублевы? Страшные мои приятели. Отец - с
хитрейшим глазком, - одна нога в деревне, другая на заводе. Замечательный
тип! А Василий тогда уже был большевиком, - умница, злой, как черт. В
феврале первый вывел наш завод на улицу. Лазил по чердакам, разыскивал
городовых: говорят, сам запорол их чуть ли не полдюжины... А после
Октябрьского переворота стал шишкой. Так вот, мы с ним и поговорили... Ты
слушаешь меня, Даша?
- Слушаю, - сказала она. Поставила пустой стакан, подперлась худым
кулачком, глядела на плавающий огонек моргалки. Серые глаза ее были
равнодушны ко всему на свете. Лицо вытянутое, нежная кожа казалась
прозрачной, носик, такой прежде независимый, даже легкомысленный,
обострился.
- Иван, - сказала она (должно быть, для того, чтобы высказать
признательность за чай с лимоном), - я искала спички, нашла за книгами
коробку с папиросами. Если тебе нужно...
- Папиросы! Ведь это еще старые, Дашенька, мои любимые! - Иван Ильич
преувеличенно обрадовался, хотя коробку с папиросами сам спрятал за книги
про черный день. Он закурил, искоса поглядывая на Дашин неживой профиль.
"Увезти ее нужно подальше отсюда, к солнцу".
- Ну-с, так вот, поговорили с Василием Рублевым, и он мне здорово помог
Даша... Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в
Рублеве, понимаешь?.. Действительно, их никто не выбирал. И власть-то их -
на волоске, - только в Питере, в Москве да кое-где по губернским
городам... Но тут весь секрет в качестве власти... Эта власть связана
кровяной жилой с такими, как Василий Рублев... Их немного на нашу
страну... Но у них вера. Если его львами и тиграми травить или живым жечь,
он и тут с восторгом запоет "Интернационал"...
Даша продолжала молчать. Он помешал в печке. Сидя на корточках перед
дверцей, сказал:
- Понимаешь, к чему говорю?.. Нужно куда-нибудь качнуться. Сидеть и
ждать, покуда все образуется, как-то, знаешь, неудобно... Сидеть у дороги,
просить милостыню - стыдно. Я здоровый человек. Я не саботажник... У меня,
по совести говоря, руки чешутся.
Даша вздохнула. Веки ее сжались, из-под ресниц поползла слеза. Иван
Ильич засопел:
- Разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе, Даша... Тебе
нужно найти силы, встряхнуться... Ведь так, как ты живешь, это угасание.
Он не удержался, - с раздражением подчеркнул это слово: угасание. Тогда
Даша проговорила жалобным детским голосом:
- Разве я виновата, что не умерла тогда! А теперь мешаю вам жить... Вы
лимон приносите... Я же не прошу...
"Вот, поди, разговаривай!" Иван Ильич походил по комнате, постучал
ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пела вьюга, мчался лютый ветер
с такою силой, будто опережая само время, летел в грядущие времена
оповещать о необычайных событиях. "За границу ее отправить? - думал Иван
Ильич. - В Самару, к отцу? Как все это сложно... Но так жить нельзя
дольше..."
Читать полностью http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_n/text_0210.shtml
|