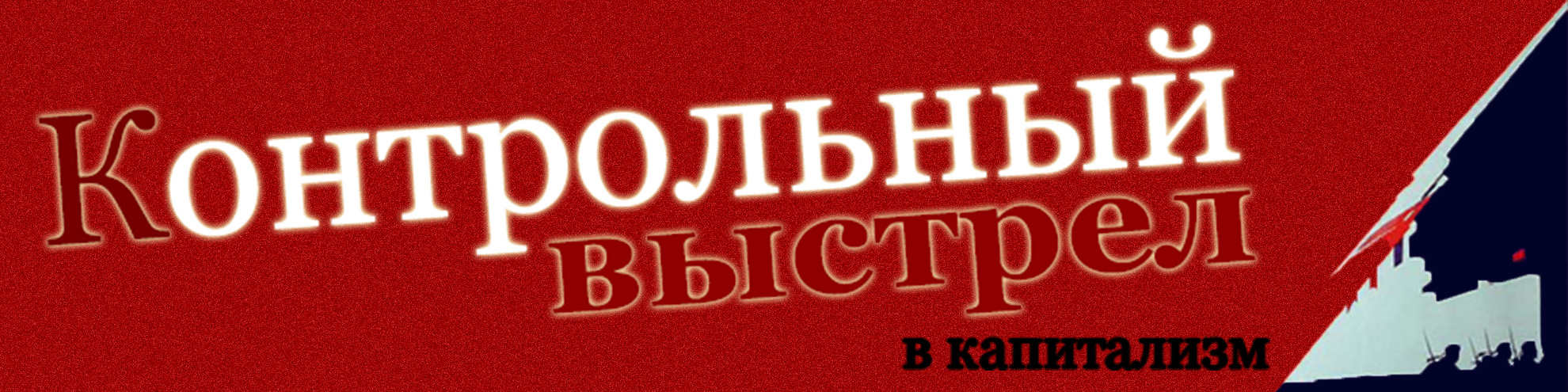Горбатов Борис Леонтьевич
Власть

Рассказ
Даже в ребяческие годы он никогда не мечтал о профессии
летчика, моряка или артиллериста. Копируя взрослых, он собирал на
пустыре детвору и, взобравшись на холм ржавого заводского хлама, кричал,
захлебываясь:
- Митинг открыт! Пролетарские дети всех стран, объединяйтесь!
В школе он был вожаком пионеров, в горпромуче - вожаком
комсомольцев, на шахте - партийным вожаком; друзья в шутку называли его
"профессиональным революционером". Никогда его не влекло ни к какой
другой профессии, кроме этой единственной: вести за собой людей.
В комитете говорили ему:
- Алексей, надо поднять народ!
И он, весело тряхнув головой, отвечал:
- Подыму!
Он подымал комсомольцев на лыжную вылазку, колхозников -
на уборку, домохозяек - на древонасаждение, шахтеров - на стахановский
штурм. Он и сам не знал, отчего люди идут за ним - в стужу, в ночь, в
непогоду. У него не было ни огненного красноречия, ни пламенных слов, -
горячее сердце, вот и все, что он имел. Но он знал своих ребят и ключи к
ним - молодые или бородатые, все они были его ребята, его народ - и он
знал свою власть над ними. И эта власть, в которой не было для него
личных выгод, а только одно беспокойство, и вечное горение, и
простуженное горло, и небритые щеки, и ночи без сна, - эта власть над
душой человека сама по себе была ему наградой.
Война застала его секретарем горкома партии и превратила
в комиссара батальона. Он был хорошим комиссаром, его любили. И он
любил свой батальон. Эти окопные парни, эти пропахшие порохом воины были
ему давно знакомы. Ни шинель, видавшая виды, ни подсумки, ни снаряжение
не могли скрыть в них его старых ребят: это был тот же его народ -
раньше он поднимал его в труд, теперь поведет на драку.
Но вот на днях шел бой за курган "Семь братьев", и
батальон его полка не поднялся в атаку. Батальон лежал под огнем у
кургана, и никакая сила не могла оторвать бойцов от влажной, сырой
земли, к которой они жадно приникли, в которую впились ногтями,
вдавились коленями, прижались лицом.
- Ну, комиссар, надо подымать народ! - сказал Алексею раненый командир батальона.
И Алексей, тряхнув головой, ответил:
- Подыму!
Он побежал, придерживая рукой полевую сумку, к кургану.
Вокруг, как хлопушки, разрывались мины, и он, сам не зная почему,
вспомнил вдруг комсомольскую пасху 1923 года, и факельное шествие, и
"Карманьолу", и как тогда мечтал о подвиге.
"...На фонари буржуев вздернем... Эй, живей, живей,
живей!" Бежать уже нельзя было, и он пополз. Он пополз к бойцам и
громко, чтобы его все услыхали, весело закричал:
- Ну, орлы, что же вы? Свинцового дождика испугались?
Вот так и надо было: не приказом, не окриком - шуткой,
потому что в инструментальном ящичке комиссара не найти ключа к простому
сердцу более верного и надежного, чем этот: шутка.
- Ну, орлы? Эх, орлы! Подымайтесь, простудитесь. Вперед!
Но никто не улыбнулся его шутке, никто не отозвался, и
никто не поднялся на его призыв. Он пополз тогда вдоль всего боевого
порядка может быть, его не слышали? Он подползал чуть не к каждому из
бойцов, обнимал и тряс за плечи, искал глаза, но люди прятали от него
глаза, отворачивали головы и еще пуще зарывались в траву.
И тогда он понял: нет у него никакой власти над ними.
Он привстал на колено и огляделся с тоской: вокруг
лежали его ребята, его народ. Вот он знает их: этому, сибиряку, он
посоветовал однажды, что ответить жене на письмо; того, уральца,
принимал в партию, а этот, земляк, донбассовец, вероятно коногон, -
лихой танцор и свистит по-разбойничьи, еще недавно комиссар видел, как
он пляшет, и аплодировал ему. Что ж он теперь колени в землю?..
Он закричал в отчаянии:
- Вперед, товарищи! Что же вы? Герои, вперед!
Но никто не двинулся с места, и только немецкие пули сильнее защелкали вокруг.
"Ведь перебьют же, всех перебьют", - с горечью подумал
комиссар, и сознание беспомощности и потерянной власти, и стыд, и обида,
и гнев вдруг охватили его с страшной силой.
Он поднялся во весь рост и закричал:
- Вперед! В ком совесть есть, вперед! За Родину!
И, не оглядываясь, побежал вперед. Один.
Он бежал под свинцовым дождем, охваченный отчаянием и
злостью, и в мозгу стучало: "Эй, живей, живей, живей! На фонари
буржуев... вздернем...", но уже не весело, а сердито, ожесточенно,
словно пели сквозь стиснутые зубы; и курган был все ближе и ближе; и
казалось, курган сложен весь из свинца, и теперь весь свинец обрушивался
на него, и свистел над головой, и падал рядом, и странно, что он еще не
убит, но ему было все равно. Все равно! Все равно! "Эй, живей, живей,
живей... На фонари..."
И вдруг он услышал топот шагов сзади и шумное дыхание, -
он оглянулся и увидел: за ним с винтовками наперевес бегут бойцы. По
всему полю подымаются, встают, бросаются вперед бойцы, на штыках -
солнце...
"Пошли-таки? - удивленно подумал он. - Поднялись? Кто же поднял их?"
Теперь люди бежали рядом с ним, перегоняли его, он видел
их потные лица и мокрые рубахи, и рты, обметанные зноем, и тогда он сам
побежал быстрее, чтоб не отстать от бойцов, и курган был все ближе и
ближе, а еще ближе - черные дымки разрывов. Алексей догадался, что это
огневой вал наших батарей, что они прижались к самому валу, и первый
весело закричал:
- Ложись! Ложись!
И увидел, как послушно и быстро залегли бойцы.
Он перевел дух.
- Сейчас батареи перенесут огонь, и мы двинемся дальше! -
Он крикнул это громко, чтобы все услышали. - Наши батареи перенесут
огонь, и мы пойдем дальше.
Он сказал это, и слова его понеслись по полю, но самого
его вдруг охватило сомнение: пойдут ли? Пойдут ли снова люди? Что, если
это только минутный порыв, взрыв стыда? Что, если всей его комиссарской
власти над солдатской душой только и хватило на то, чтобы зажечь в бойце
минутный порыв, и вся его власть измеряется десятью минутами и
тридцатью метрами целины?
Батареи уже били по кургану. Над курганом взлетали груды
земли, обломки балок, щепки; немцы пригнули головы, их огонь стал
слабее.
- Вперед! - закричал Алексей, подымаясь. - Вперед, герои, за Родину!
И увидел: поднялись те, что лежали рядом, за ними
поднялись передние, а затем и все поле. Снова вспыхнуло "ура" - хриплое,
знойное, ожесточенное - и снова на штыках солнце, и шумное дыхание
рядом, и ветер воет в ушах.
"Вот! - ликующе подумал на бегу Алексей. - Пошли-таки".
- Вперед! - закричал он снова, хотя кричать уж не надо
было, но сердце было переполнено. Это не он, а сердце кричало и пело: -
Вперед!
Вот они бегут рядом с ним, его ребята. Он увидел
коногона: по его цыганскому лицу текла кровь, со лба на щеки, он не
замечал... "Эх, расцеловать бы их всех! Здорово, здорово бегут". Это он
ведет их. Как раньше вел. Как всегда. Как тогда, в молодости, на
комсомольскую пасху. Факелы. И запахи смолы и первой сирени... Как
тогда, на субботник, и запах акаций, и сладкий, до горечи сладкий запах
угля и дыма... "Сейчас пахнет полынью и еще чем? Свинцом? Свинец не
пахнет. Дымом? Старый, знакомый запах смерти". Здорово, смело идут его
ребята! И он сам здорово, смело идет! Это он ведет их. На бой. На
смерть. На победу. Как всегда вел.
Но вести людей на веселье, когда факелы, и фонари, и
запахи смолы и первой сирени, - легко. Вести людей на труд, на привычное
и естественное для человека дело тоже не трудно. Но какой же властью,
какой неслыханной властью надо обладать, чтобы повести людей на смерть,
на муку, на состояние, противоестественное человеку, повести не
приказом, не страхом, а одним горячим сердцем, вот как сейчас он ведет
под огнем, по целине, пахнущей полынью и дымом, к кургану, который все
ближе и ближе. Вот у него эта власть! Неслыханная власть. Вот он владеет
сердцами этих людей. Вот он скажет: "В штыки!" - и люди бросятся в
штыки. Он скажет: "На смерть!" - и люди пойдут на смерть.
"А что, если я скомандую: "Назад!", или "Бросай
оружие!", или "Сдавайся немцам!"?" Он увидел в эту минуту уральца: на
его лице пылало пламя боя, и злости, и ярости, никогда еще не был он
таким красивым, как в эту минуту, и Алексей понял: растопчут. Его,
комиссара, растопчут, задавят, приколют, если он скомандует "назад".
"Приколют, ей-богу, приколют", - обрадованно подумал он. И от этой мысли
ему вдруг стало хорошо и весело, словно он видел и высоту своей власти,
и ее пределы, и власть, которая над ним, и над уральцем, и над
сибиряком, - власть родной земли, горько пахнущей полынью.
И уже больше ни о чем связно не мог думать комиссар.
Курган побежал под ногами. Полынь. Полынь. Полынь. Отчего от запаха
полыни свирепеет сердце? Они бегут рядом, комиссар и его бойцы, и вот
уже немецкие блиндажи, и порванная проволока, и фриц с распоротым
животом, и яростное лицо уральца, и гребень кургана. И навсегда
запомнилось, как на вершине ударил резкий ветер в лицо и распахнулась
даль, и он увидел синие терриконики на горизонте, и степь, и реку, и
белые, словно серебряные, меловые горы вдали...
1942