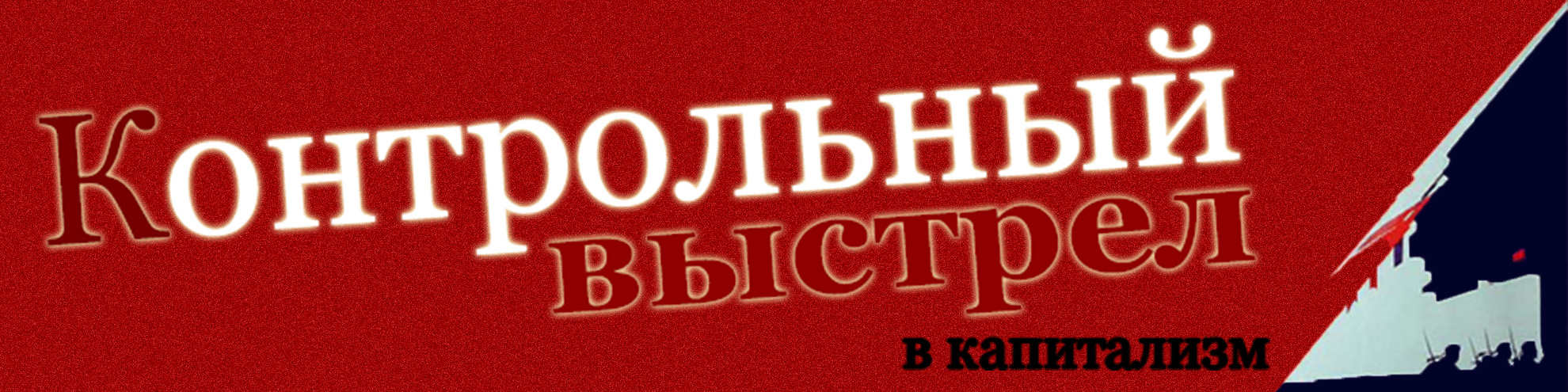|
Памяти знаменитого советского писателя
Вениамина Александровича Каверина (1902 — 1989), Лауреата Сталинской
премии второй степени (1946). Каверин умер 2 мая 1989 года.
Вениамин Каверин
Открытая книга
НА СЪЕЗДЕ
У подъезда Филармонии была толкотня, и, насилу пробравшись в
вестибюль, я сразу поняла, что нечего и думать попасть на съезд без
билета. Машка Коломейцева помогла мне. Мы встретились в вестибюле, она
спросила, почему у меня такой постный вид, подхватила под руку и сказала
злой контролерше: – Нам не нужно билетов. Мы подаем. Контролерша сердито кивнула, мы прошли, а когда, давясь от смеха, я
спросила: «Что подаем?» – Маша беззаботно махнула рукой и сказала: – Ах, не все ли равно. Съезд открылся ровно через десять минут после того, как мы заняли
чьи-то чужие кресла, на которых лежали бумажки с загадочными буквами
«ЧОБ» – член организационного бюро, как догадалась Машка. В президиуме
сидели главным образом старики, и среди них была особенно заметна фигура
Коровина, о котором Петя Рубакин в перерыве сказал, что в прошлом он
был главным санитарным инспектором белой армии – ни больше ни меньше! Он
же показал мне Николая Львовича Никольского – знаменитого ученого,
одного из основателей русской микробиологии. «Это дед», – сказал о нем Рубакин. Дед сидел, сморщив большой мясистый нос, скрестив длинные ноги. Совершенно такой же, как всегда, Николай Васильевич появился за
столом президиума – немного сгорбленный, седой, лысый, милый, в потертом
пиджаке и модном галстуке, который, тоже, как всегда, был завязан
криво. Он объявил, что нарком «задержался» – таким образом, Митино
предсказание подтвердилось – и что поэтому «в ожидании его приезда»
следовало бы начать работу. Машка прошептала: – В ожидании или не дожидаясь? Я толкнула ее и стала слушать. Николай
Васильевич произнес совершенно другую речь, чем та, которую я накануне
услышала от Мити в ресторане «Донон». Он перечислил обширные задачи,
стоящие перед советским здравоохранением в связи с пятилетним планом, и
широко обрисовал современное положение дел в практической и научной
медицине. Потом Николай Васильевич предложил почтить вставанием память
«выдающихся деятелей, которые были душой предшествующих съездов», и
начались доклады. Машка не давала мне слушать. То она, как глухонемая,
при помощи пальцев разговаривала с кем-то на хорах, то смеялась над
знакомым студентом, энергично записывавшим выступление Заозерского,
которое назавтра должно было появиться в газете. То кокетничала
одновременно с тремя молодыми людьми, сидевшими за нами. – Техника, да? – смеясь, спросила она и стала учить этой технике
меня, но через пять минут соскучилась, заявила, что у меня не хватает
«серьезного, ответственного отношения к делу», и выдумала новую игру:
стала писать знакомым студентам анонимные записки, глупые, но довольно
смешные. – Кто это? – спросила она, когда Митя, которого я до сих пор не
видела, появился на эстраде – не за столом президиума, а в глубине, на
ступеньках справа. Я ответила: – Доктор Львов. – Ты его знаешь? – Немного. – Какой интересный! – Ты находишь? – Безумно интересный! – сказала Машка. – Давай напишем ему. – Ты сошла с ума! – Ну, ты напиши, миленькая, дорогая! Хоть два слова! Я хочу, чтобы он знал, что ты здесь. А потом ты нас познакомишь. – И не подумаю. – Не познакомишь? – Да нет, могу познакомить, но зачем же писать? – А вдруг он уйдет! Ну, пожалуйста! Что тебе стоит? И Машка почти насильно всунула мне в руки карандаш и бумагу. – Что же писать?
|