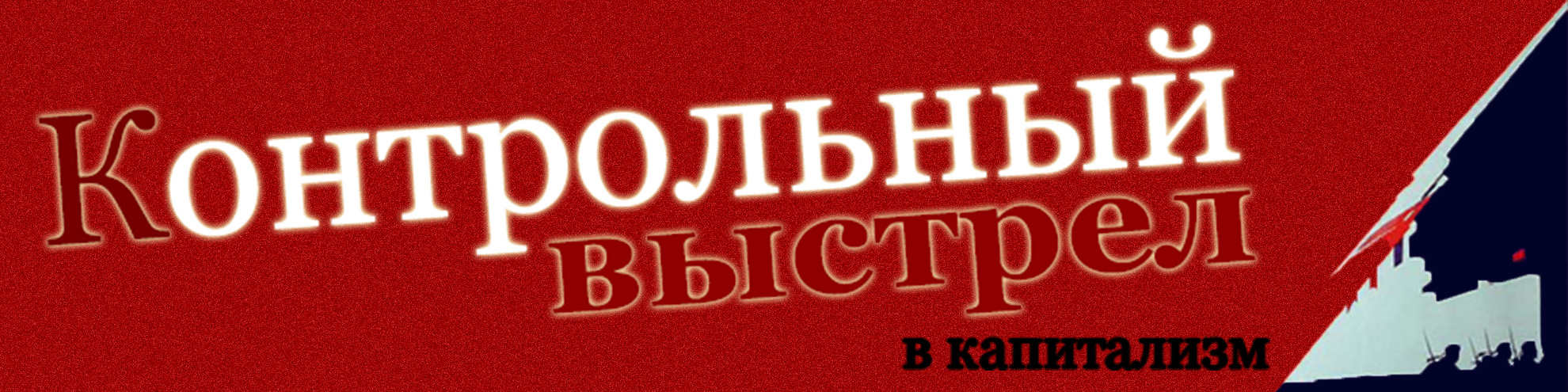Вениамин Каверин
Открытая книга
«Знаешь ли, какое зрелище больше всего
поразило меня, – писал он из Сталинграда, – пленные немцы! Не могу
забыть одну колонну, идущую степью, сплоченную в голове, но постепенно
редеющую к концу. Люди останавливались, пошатываясь, потом гнулись к
земле, падали, пытались ползти на четвереньках и коченели в снегу, с
белыми носами, с замерзшими веками. А другие все шли да шли. Наши
автоматчики в полушубках и валенках терпеливо ожидали их, положив на
автоматы руки в шерстяных рукавицах. В одной балке наши раздавали
пленным хлеб и колбасу, и ты посмотрела бы на эти дрожащие руки, горящие
глаза и послушала бы добродушные прибаутки нашего каптенармуса,
кормившего вчерашних врагов! Потом налетел запоздавший „юнкере" и
сбросил несколько бомб в балку, на своих. Те пленные, у которых еще были
силы, побежали в разные стороны, а большинство продолжало жевать
русский хлеб, обильно поливая его слезами… Злобы? Обиды? Отчаяния? Поди
разберись!»В Сталинград он уехал надолго – нужно было восстановить в
разрушенном, заваленном трупами городе санитарно-эпидемиологическое
хозяйство.
Весна сорок третьего года. Днем – работа, напряженная, острая, а по
вечерам – внезапные приезды друзей из разных мест и лет, друзей, не
вспоминавших о нас годами. Война, глубоко перетряхнувшая жизнь, вдруг
оживила старые, казавшиеся давно забытыми связи. К старым друзьям
потянуло, как потянуло к «Войне и миру», книге, которую тогда читали все
– и в тылу и на фронте. Многое было недоговорено, полузамечено, и все
задумались: да не были ли эти полузамеченные, промелькнувшие мысли и
чувства самыми серьезными, самыми глубокими в жизни?
Однажды, возвращаясь домой, я догнала на лестнице плотного,
широкоплечего военного, с большим лицом, в котором, точно в дружеском
шарже, все было как бы подчеркнуто, добродушно преувеличенно: брови –
вдвое шире, чем надо, губы – толстые, немного шлепающие, глаза –
угольно-черные, нос – вздернутый, крепкий.
Это был Гурий Попов, военный корреспондент «Известий», а в прошлом –
мой товарищ по школе и автор знаменитой бессловесной кинопьесы, в
которой я играла главную роль.
– С лопахинским приветом, – сказал
он и засмеялся. – Не будем говорить о том, какими мы стали. Поговорим о
том, какими мы были. Можно называть вас на «ты», уважаемый доктор
медицинских наук?
Он провел у меня целый вечер, рассказывая о своей работе, которая
понаслышке всегда представлялась мне увлекательной, необыкновенной. Увы!
Сам военный корреспондент был о ней совершенно другого мнения!
С первого слова я спросила о Володе Лукашевиче, и Гурий ответил, что в
последний раз видел его прошлым летом на Северном флоте. Он ничего не
знал о его дальнейшей судьбе и удивился, когда я сказала, что в августе
прошлого года мы встретились в Сталинграде.
– Славный малый, – с обидевшей меня небрежностью сказал Гурий.
Это был милый вечер воспоминаний о Лопахине, о школьных друзьях. Но
это был вечер, в котором чего-то все-таки не хватало, точно мы
старательно ловили и не могли поймать давно порвавшуюся нить отношений.
Так не было, когда я встретилась с Володей Лукашевичем в Сталинграде,
потому что жизнь сделала его богаче и тоньше, а Гурий – я быстро
убедилась в этом, – потеряв прелесть молодости, стал энергичным и
дельным, но ограниченным человеком. Впрочем, может быть, нам просто не
хватало Андрея?
– Расскажи хоть, какой он стал? – с нежностью, вдруг оживившей его
большое, грубое лицо, сказал Гурий. – Черт знает что за жизнь! С лучшим
другом видишься раз в полстолетие.
Фотография Андрея висела над
столом, моя любимая, на которой ясно виднелись беленькие параллельные
полоски на носу и твердое правильное лицо было озарено светлыми глазами.
Гурий долго рассматривал фотографию.
– Какая досада, что он в отъезде. Бог весть когда еще удастся выбраться к вам!
Я
сказала, что в последнее время Андрей работал над книгой, и Гурий вдруг
радостно захохотал, показав большие, неправильные зубы.
– В нашем полку прибыло! – сказал он. – Ох, нелегкое дело. Ну-ка, почитай.
Мне давно хотелось, чтобы Андрей посоветовался о своих очерках с
каким-нибудь писателем или журналистом. Куда там! Он только смеялся и
говорил, что сейчас пишут все – летчики, врачи, просто читатели. Вот
написал и он – не отставать же от всех!
Часть рукописи была напечатана на машинке – опять-таки по моему
настоянию, и я наудачу прочитала Гурию несколько страниц. Он выслушал,
туповато уставившись и немного распустив толстые губы.
– Это
написал Андрей? Послушай, да ведь это же превосходно. Если бы я умел так
писать – давным-давно ушел бы из газеты. Только меня и видели! Прочитай
еще что-нибудь.
Я прочитала.
– Очень свежо! Дай мне этот очерк.
– Зачем?
– Мы его напечатаем.
– Ну да? А если Андрей не захочет?
– Не захочет – верну.
Я подумала и согласилась. Гурий ушел, пообещав позвонить. И не позвонил, должно быть, уехал.
Я сказала, что друзья стали являться «из разных лет и мест», и это
было именно так. Из далеких школьных лет явился Гурий Попов. В середине
января была прорвана ленинградская блокада, и в Москву приехал Леша
Дмитриев, мой товарищ по медицинскому институту. А в середине марта сам
«Зерносовхоз No 5» ворвался ко мне с «лекарней», в которой горел по
ночам загадочный лунный свет, с пылью, жарой, суховеями, с грейдерными
дорогами, по которым грохотали нагруженные пшеницей машины.
Впрочем, в то утро воскресного дня я занималась не наукой, а стиркой.
Котел с бельем стоял на раскаленной докрасна «пчелке», поперек комнаты
была протянута веревка, на которой висели наволочки, полотенца и другое
белье, которое я, пожалуй, не развесила бы так картинно, если бы
поджидала гостей.