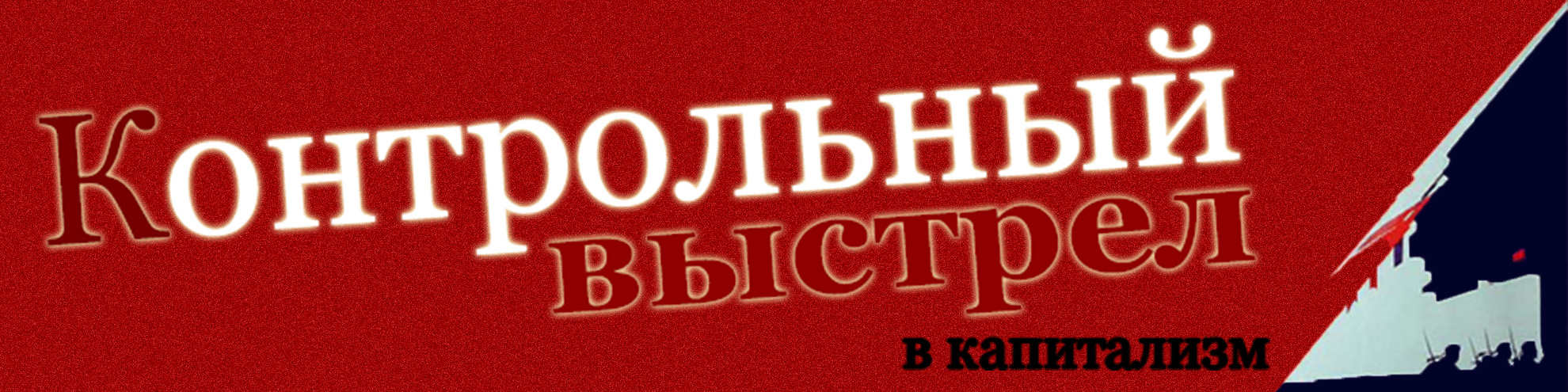|
Елизавета
Николаевна Ковальская

Автобиография
написана в ноябре 1925 г. в Москве. Родилась
я в Харьковском у., в имении моего
незаконного отца, помещика Солнцева. Моя
мать — крестьянка, была крепостной
моего отца. По каким-то семейным
соображениям, отец, благодаря обширным
связям с высшей администрацией, перевел
меня с матерью в мещане г. Харькова
задним числом, спустя приблизительно 7
лет после моего рождения.
Вследствие
этого я по официальным бумагам
значилась „незаконная дочь мещанки г.
Харькова и полковника Солнцева". Год
моего рождения в разных бумагах
значится разный: в одном документе — 49, в
другом— 50, а в третьем— 52 г. Какой
действительный — не знаю.
Первые
впечатления бытия были для меня жестоки
и непонятны. Мне не было еще 6 лет,
вероятно, когда мне стало известно, что
существуют помещики и крестьяне-крепостные;
что помещики могут продавать людей, что
мой отец может продать мою мать
соседнему помещику, а меня другому,
разлучив нас. Но моя мать не может
продать моего отца. Не менее жестоким
было для меня другое открытие: дети
делятся на законных и незаконных, при
чем последние, независимо от их личных
качеств, всегда заслуживают презрения,
служат предметом издевательств,
оскорблений. Дворовые ребятишки
дразнили меня скверным словом, каким в
те времена народ называл незаконных
детей.
Долгими
зимними вечерами в деревне, пробравшись
тихонько в „девичью", притаившись в
уголку, я слушала, как дворовые девушки,
сидя с прялками, освещенные пылающей
печью, рассказывали друг другу свои
печальные истории. Заметив меня, одна из
них обратилась ко мне: „Слушай, слушай,
вот вырастешь, — на твою беду ты
красивая, — продадут тебя". По ночам
меня мучили кошмарные сны, мне снилось,
как меня продают. Освобождение
крестьян произвело на меня потрясающее
впечатление. Я была долго точно пьяная
от радости.
Мы
переехали в Харьков. Отец занялся моим
воспитанием, готовя из меня „барышню".
Были приглашены: француженка, учителя
музыки, танцев и для занятий другими
предметами студент—поляк, высланный в
Харьков за прикосновенность к польскому
мятежу. Он увлекательно рассказывал мне
о борьбе поляков за свою свободу. Я
плакала от того, что я не полька и не
смогу бороться за свободу... ... В этот
период времени в Харькове вводились
новые судебные учреждения—гласный суд.
Члены нашего кружка, по окончании
гимназических уроков, бежали на
заседания суда, где иногда просиживали
за полночь. Перед нами развертывались
общественные вопросы в картинах
реальной жизни.
Помню
блестящую речь только что выступившего
на судебное поприще молодого товарища
прокурора—А. Ф. Кони, обвинявшего
подрядчика, непостроившего подпор при
земляных работах, следствием чего было
несколько трупов рабочих, засыпанных
землей. Перед нами проходили крестьяне,
обделенные землею при освобождении,
судившиеся за бунты; женщины—убийцы
своих мужей, не стерпевшие своего
рабства, санкционированного законом.
Освобождение
крестьян вызвало женское движение.
Стремление к эмансипации женщин широкой
волной разлилось по всем центрам России,
захватило и меня... ... К этому
времени в Харьков ожидался приезд
министра просвещения Д. Толстого; мы
повели агитацию о подаче петиции
министру, в которой думали просить права
женщинам вступать в университеты.
Многочисленные собрания шли одно за
другим, была выбрана комиссия для
составления петиции; в нее вошли
профессора: Н. Н. Бекетов (химик), юристы—Стоянов,
Владимиров, художница Иванова-Раевская
и я. Делегатками для подачи петиции были
выбраны: я, Анна Аптекман и Иванова-Раевская.
Толстой принял нас очень враждебно,
ответил, что никогда он этого не
допустит.
Потерпев
поражение, я уехала в Петербург, где
стала посещать высшие женские курсы—Аларчинские
и Чернышевские. В Петербурге я
познакомилась с кружком передовых
женщин, группировавшихся вокруг сестер
Корниловых. Там я впервые увидела С. Л.
Перовскую, совсем юной девушкой.
Организовался небольшой кружок для
изучения политической экономии, в него
вошли: С. Перовская, А. Корнилова, Ольга
Шлейснер, впоследствии первая жена
Натансона, Вильберг и я. Одновременно
образовался другой женский кружок,
который решительно не хотел соединяться
с мужскими кружками, боясь, что мужчины,
более развитые, будут оказывать
давление на самостоятельное развитие
женщин. В этот кружок вошли также я, С.
Перовская и А. Корнилова. В это же время
кружок, который впоследствии получил
название „чайковцев", занимался
распространением по удешевленным ценам
легальных книг определенного
направления: Флеровского „Положение
рабочего класса" („Азбука социальных
наук" тогда еще не вышла), Лассаль,
Верморель—„48 год", Луи-Блан, 1-й том „Истории
французской революции" и др. такого же
характера.
Чтение
таких книг, французская коммуна это был
1871 г.), печатавшийся отчет о процессе „нечаевцев"
все это вместе ввело меня в определенно
революционное русло... 22 октября
1880 г. мы с Щедриным были арестованы в
Киеве и вместе с другими членами (С.
Богомолец, А. Преображенским, И.
Кашинцевым, М. Присецкой, П. Ивановым, А.
Доллером, В. Кизером и С. Кузнецовой) Южно-Русского
Рабочего союза, арестованными позже, в
1881 г., преданы военно-окружному суду.
Обвинялись по ст., по которой следует
смертная казнь. В мае 1881 г. состоялся суд.
На суде я заявила, что суда
правительства не признаю и принимать в
нем участия не желаю, отказалась от
защитника и от последнего слова на суде.
Была приговорена к бессрочной каторге.
Отправленная
в каторжные работы на Кару в 1882 г., по
дороге бежала из Иркутской пересыльной
тюрьмы, переодевшись надзирательницей (вместе
со мною бежала С. Богомолец под видом
моей гостьи).
Пробыв на
воле около 3-х недель, была арестована и
закована в наручни. После окончания
следствия о побеге была отправлена на
Кару; наручни были сняты. На Каре у меня
начались столкновения с тюремным
начальством, которые тюремное ведомство
называло „бунтами" и просило в
Петербурге разрешения отправить меня
вместе с другими бунтовавшими: С.
Богомолец, Е. Россиковой, М. Ковалевской
в строгое одиночное заключение в
Иркутский тюремный замок. Раннею весною
1884 г. мы были перевезены в Иркутск.
Осенью
того же года я бежала из Иркутского
тюремного замка, переодевшись
надзирателем. Пробыв на этот раз на воле
около полутора месяцев, была арестована
и приговорена к 90 плетям. Присланных ко
мне врачей для освидетельствования моей
способности вынести плети, я не приняла,
заявив, что такой приговор они могут
привести в исполнение только над моим
трупом. В это время в тюрьме по другим
поводам началась голодовка, (в которой я
приняла участие), продолжавшаяся 16 суток.
Рассчитывая, что смерть может вызвать
окончание безнадежно затянувшейся
голодовки, я сделала неудачную попытку
самоубийства. Надзиратели скоро
заметили и сняли меня с петли. Слухи об
этом разнеслись по городу; иркутские
дамы поехали к губернатору Носовичу,
настойчиво убеждали его сделать уступки.
Наши требования были удовлетворены.
Голодовка окончилась.
Весною 1885
г. я была отправлена снова на Кару; мне
прибавили срок испытуемой, но телесное
наказание не привели в исполнение.
В 1888 году
на Кару приехал генерал-губернатор
Восточной Сибири—барон Корф, Я никогда
в тюрьме не вставала при входе
начальства, не встала и перед ним. На его
приказание: „встать!" ответила: „Я
пришла сюда за то, что не признаю вашего
правительства, и перед его
представителями не встаю". Взбешенный
Корф крикнул сопровождавшим его казакам:
„поднять ее штыками!" Казаки
топтались на месте, не решаясь
действовать. Корф, разъяренный, выбежал
из тюрьмы.
Через
несколько дней я была ночью взята из
тюрьмы и отправлена, при возмутительном
обращении со мною, в Верхнеудинский
тюремный замок в строгое одиночное
заключение. Карийские товарищи начали
голодовку, требуя смены коменданта за
историю со мною. Коменданта не сменили.
Тогда Н. Сигида дала пощечину коменданту
Масюкову, думая, что после этого ему
нельзя будет продолжать службу. К Сигиде
применили телесное наказание. Идя на
экзекуцию, Сигида заявила, что для нас
телесное наказание равняется смертной
казни. После наказания она приняла яд и
вскоре умерла. М. Ковалевская, М.
Калюжная и Н. Смирницкая, решив своею
смертью сделать невозможным дальнейшее
применение телесного наказания,
покончили с собой. В мужской тюрьме по
тому же мотиву покончили самоубийством
И. Калюжный и Бобохов. Находившийся в
вольной команде Геккер выстрелил в себя,
но остался жив.
Результатом
самоубийств был циркуляр, присланный на
Кару из Петербурга, в котором
предписывалось начальнику каторги
впредь не применять телесного наказания
ни к политическим, ни к уголовным
женщинам.
В
Верхнеудинске я сделала новую попытку
побега, на этот раз неудавшуюся, после
чего меня отправили в каторжную тюрьму
Нерчинском каторги, в Горный Зерентуй.
Дорогой я узнала, что в Горном Зерентуе
меня будет принимать помощник
начальника каторги Бобровский, который
привел в исполнение наказание над
Сигидою. При приеме я бросилась на
Бобровского с маленьким кинжалом,
который всегда носила при себе, думая
убить Бобровского. Тюремные надзиратели,
окружавшие меня в этот момент, схватили
за руки и обезоружили. Бобровский в это
время был уже человеком умирающим от
туберкулеза; он настоял, чтобы о моем
покушении не составляли протокола.
Месяца через полтора Бобровский умер.
Это покушение прошло зря меня
безнаказанно.
Поместили
меня в Горном Зерентуе и камере, бывшей
мертвецкой, потому что эта камера была
вполне изолирована от других арестантов.
По
законам того времени приговоренным
судом в каторжные работы на заводах, в
случае, если они посылались в рудники,
считалось семь месяцев за год. Женщины
по закону могли быть приговариваемы
только на заводы. Так как я была послана
в рудники (хотя в рудниках мы не работали),
то мне тоже считали семь месяцев за год.
На протяжении моей каторги было четыре
манифеста, которые сбавляли сроки всем
уголовным и политическим каторжанам.
Первый
манифест ко мне не был применен, по
второму меня перевели из бессрочной в
двадцатилетнюю. Но, так как за побег мне
был надбавлен срок испытуемой, который
составляет часть всего срока и который
вместе с прежним сроком превысил срок
настоящий, то тюремное ведомство
совершенно запуталось, как считать мой
срок. Заведывавший в это время
Нерчинской каторгой Томилин,
относившийся очень хорошо к
политическим, решил, что я имею уже право
на вольную команду. Я была выпущена из
тюрьмы и отправлена в Кадаю (одно из мест
Нерчинской каторги) в вольную команду.
Позже снова переведена в Горный
Зерентуй, тоже в вольную команду. Живя
вне стен тюрьмы, по ходатайству
заведывавшего ремесленными классами
горного училища Нерчинского завода, С В.
Девеля, который случайно познакомился
со мною, я получила разрешение ездить в
Нерчинский завод обучать учеников
переплетному ремеслу. Там быстро у меня
завязались знакомства, и я, в
сотрудничестве с Девелем, организовала
бесплатную публичную библиотеку и при
ней склад дешевых народных книг
Московского и Петербургского Обществ
грамотности, с которыми мы завели
сношения. Библиотека стала культурным
центром Нерчинского завода. Военный
врач Бек, объезжая казачьи станицы,
развозил книги нашего склада по Аргуни.
Доктор
Бек, открывший особую болезнь на Аргуни,
которая названа была в медицине Бековской
болезнью.
Постепенно
я перешла к пропаганде и
распространению весьма
немногочисленных нелегальных книг,
которые мне удавалось получать. Во время
восстания „кулаков" в Китае русские
войска были двинуты по направлению
Китая. В Нерчинском заводе оказался
казачий батальон, среди которого я
начала вести пропаганду; фельдшера
завода были прикомандированы к войскам,
не хватало медицинского персонала для
местного населения, я предложила
бесплатно работать в амбулатории в
качестве фельдшерицы. Это дало мне
возможность расширить круг моих
знакомств. Окружной начальник, старик
Савинский, мальчиком обучался разным
предметам у сосланных в Нерчинский
завод петрашевцев и сохранил к
политическим большое уважение. На
запрос читинского губернатора, не
опасно ли оставлять меня в Нерчинском
заводе при амбулатории, ответил: „Хотя
Ковальская своих убеждений не изменила,
но в Нерчинском заводе она не найдет для
них почвы".
В 1903 году
окончился срок моей каторги. Пробыв 23
года в тюрьме и каторге, я была назначена
в Якутскую область на поселение.
Существовал закон или соглашение с
другими государствами, по которому
иностранных подданных, окончивших
каторгу, высылали в их государство. За
несколько лет до окончания моей каторги
я вышла замуж за поляка, австрийского
подданного, М.Маньковского, осужденного
на каторгу по процессу польской партии
„Пролетариат".
Он
обратился в департамент полиции с
заявлением, что я, как австрийская
подданная (по мужу), должна иметь право
выехать вместе с ним в Австрию. После
долгой переписки нас обоих выслали в
Австрию без права въезда в Россию. За
границей, в Женеве, я вступила в партию с.-р.,
но через месяц на конференции партии,
бывшей подле Женевы на вилле Германе,
вышла из партии, разойдясь с партией по
вопросу программ minimum и maximum. Я
признавала одну только программу maximum.
Одновременно со мною там же выделилось
несколько человек из партии по тому же
вопросу. Мы образовали группу, которая
стала издавать сначала „Дискуссионный
листок", имевший целью
пропагандировать программу maximum.
Затем выпустили номер газеты: „Коммуна".
Эта группа была одной из первых
максималистских организаций. Я
связалась с образовавшейся в России
почти в то же время максималистской
организацией.
В 1907 г.
приехавшая из России максималистка
Татьяна Леонтьева, поселившаяся в одном
богатом отеле в Интерлакене, убила
выстрелом из револьвера французского
гражданина Мюллера, указанного ей кем-то,
как русского министра Дурново. Кем было
сделано это ложное указание, мне
осталось неизвестным. По доносам
русских агентов швейцарское
правительство, считая меня
организаторшей этого террористического
акта (в действительности я сама узнала о
нем роst factum, дало распоряжение о
моем аресте. Меня предупредили; я бежала
в Париж. Спустя два месяца после суда
над Леонтьевой я была арестована в
Париже международной полицией.
Парижская полиция дала знать
швейцарскому правительству о моем
аресте, прося выслать конвой на границу
для принятия меня от французской
полиции. Швейцария ответила, что во
время процесса Леонтьевой выяснилась
непричастность Ковальской к этому делу,
а потому Ковальская может быть
освобождена.
После
моего освобождения мы несколько
максималистов, организовали новую
группу в Париже, которая стала издавать
газету: „Трудовая Республика".
1914 г.
застал меня во Франции. Война была
объявлена неожиданно. Французское
правительство стало арестовывать всех
германских и австрийских подданных и
препровождать их в концентрационный
лагерь. Так как я была арестована в
Париже с австрийским паспортом, то мне
пришлось перейти на нелегальное
положение. Первое время мне пришлось
скрываться, переезжая с одного места на
другое; затем при содействии
французских социалистов, знавших мое
русское происхождение, удалось
устроиться в полулегальном положении на
юге Франции. После Февральской
революции я с большим трудом, при помощи
тоже французских социалистов, изменила
свою фамилию Маньковской (по второму
мужу) на прежнюю фамилию Ковальской и,
таким образом, получила легальное
положение. В 1917 г. через Англию и
Норвегию вернулась в Россию незадолго
перед Октябрьской революцией. Заболела.
Оправившись посла болезни, в 1918 г.
поступила на службу в Историко-Революционную
секцию Государственного Архива.
Прослужив пять лет научным сотрудником,
в 1923 т. переехала в Москву в дом
ветеранов революции имени Ильича. В
настоящее время состою членом редакц.
коллегии журн. „Каторга и ссылка". Читать полностью http://www.narovol.narod.ru/Person/kovalskaya.htm
|