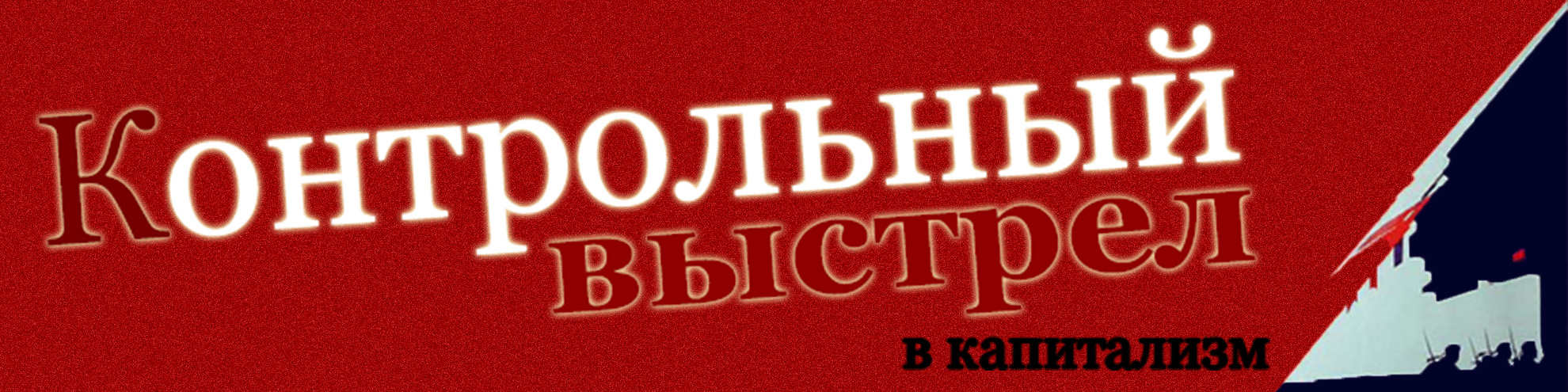Процессы против троцкистов. С другой стороны, тот же Сталин решил в конце концов вторично привлечь своих противников-троцкистов к суду, обвинив их в государственной измене, шпионаже, вредительстве и другой подрывной деятельности, а также в подготовке террористических актов. В процессах, которые своей "жестокостью и произволом" возбудили против Советского Союза мир, противники Сталина, троцкисты, были окончательно разбиты. Они были осуждены и расстреляны.
Личные ли это мотивы Сталина? Объяснять эти процессы - Зиновьева и Радека - стремлением Сталина к господству и жаждой мести было бы просто нелепо. Иосиф Сталин, осуществивший, несмотря на сопротивление всего мира, такую грандиозную задачу, как экономическое строительство Советского Союза, марксист Сталин не станет, руководствуясь личными мотивами, как какой-то герой из классных сочинений гимназистов, вредить внешней политике своей страны и тем самым серьезному участку своей работы.
Участие автора в процессах. С процессом Зиновьева и Каменева я ознакомился по печати и рассказам очевидцев. На процессе Пятакова и Радека я присутствовал лично. Во время первого процесса я находился в атмосфере Западной Европы, во время второго - в атмосфере Москвы. В первом случае на меня действовал воздух Европы, во втором - Москвы, и это дало мне возможность особенно остро ощутить ту грандиозную разницу, которая существует между Советским Союзом и Западом.
Впечатления от процессов за границей. Некоторые из моих друзей, люди вообще довольно разумные, называют эти процессы от начала до конца траги-комичными, варварскими, не заслуживающими доверия, чудовищными как по содержанию, так и по форме. Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали после этих процессов его противниками. Многих, видевших в общественном строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик; им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир.
В Западной Европе - одно. И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством.
В Москве - другое. Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда.
Проверка. Я взял протоколы процесса, вспомнил все, что я видел собственными главами и слышал собственными ушами, и еще раз взвесил все обстоятельства, говорившие за и против достоверности обвинения.
Маловероятность обвинений против Троцкого. В основном процессы были направлены, прежде всего, против самой крупной фигуры - отсутствовавшего обвиняемого Троцкого. Главным возражением против процесса являлась мнимая недостоверность предъявленного Троцкому обвинения. "Троцкий, - возмущались противники, - один из основателей Советского государства, друг Ленина, сам давал директивы препятствовать строительству государства, одним из основателей которого он был, стремился разжечь войну против Союза и подготовить его поражение в этой войне? Разве это вероятно? Разве это мыслимо?"
Вероятность обвинений против Троцкого. После тщательной проверки оказалось, что поведение, приписываемое Троцкому обвинением, не только не невероятно, но даже является единственно возможным для него поведением, соответствующим его внутреннему состоянию.
Причины. Нужно хорошо себе представить этого человека, приговоренного к бездействию, вынужденного праздно наблюдать за тем, как грандиозный эксперимент, начатый им вместе с Лениным, превращается в некоторого рода гигантский мелкобуржуазный шреберовский сад[5]. Ведь ему, который хотел пропитать социализмом весь земной шар, "государство Сталина" казалось - так он говорил, так писал - пошлой карикатурой на то, что первоначально ему представлялось. К этому присоединялась глубокая личная неприязнь к Сталину, соглашателю, который ему, творцу плана, постоянно мешал и в конце концов изгнал его. Троцкий бесчисленное множество раз давал волю своей безграничной ненависти и презрению к Сталину. Почему, выражая это устно и в печати, он не мог выразить этого в действии? Действительно ли это так "невероятно", чтобы он, человек, считавший себя единственно настоящим вождем революции, не нашел все средства достаточно хорошими для свержения "ложного мессии", занявшего с помощью хитрости его место? Мне это кажется вполне вероятным.
Алкивиад у персов. Мне кажется, далее, также вероятным, что если человек, ослепленный ненавистью, отказывался видеть признанное всеми успешное хозяйственное строительство Союза и мощь его армии, то такой человек перестал также замечать непригодность имеющихся у него средств и начал выбирать явно неверные пути. Троцкий отважен и безрассуден; он великий игрок. Вся жизнь его - это цепь авантюр; рискованные предприятия очень часто удавались ему. Будучи всю свою жизнь оптимистом, Троцкий считал себя достаточно сильным, чтобы быть в состоянии использовать для осуществления своих планов дурное, а затем в нужный момент отбросить это дурное и обезвредить его. Если Алкивиад пошел к персам, то почему Троцкий не мог пойти к фашистам?
Ненависть изгнанного к изгнавшему. Русским патриотом Троцкий не был никогда. "Государство Сталина" было ему глубоко антипатично. Он хотел мировой революции. Если собрать все отзывы изгнанного Троцкого о Сталине и о его государстве воедино, то получится объемистый том, насыщенный ненавистью, яростью, иронией, презрением. Что же являлось за все эти годы изгнания и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти.
Шекспир о Троцком. Кориолан Шекспира, придя к врагам Рима - вольскам, рассказывает о неверных друзьях, предавших его: "И пред лицом патрициев трусливых, - говорит он заклятому врагу Рима, - бессмысленными криками рабов из Рима изгнан я. Вот почему я здесь теперь - пред очагом твоим. Я здесь для мщенья. С врагом моим я за изгнанье должен расплатиться".
Так отвечает Шекспир на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.
Ленин о Троцком. Небольшевистское прошлое Троцкого - это не случайность. Так отвечает Ленин в своем завещании на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.
Троцкий о Троцком. Эмиль Людвиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы Острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге "Дары жизни". То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить призадуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. "Его собственная партия, - сообщает Людвиг (я цитирую дословно. - Л. Ф.), - по словам Троцкого, рассеяна повсюду и поэтому трудно поддается учету. "Когда же она сможет собраться?" - Когда для этого представится какой-либо новый случай, например война или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. "Но в этом случае Вас-то именно и не выпустят, даже если бы те захотели Вас впустить". Пауза - в ней чувствуется презрение. - О, тогда, по всей вероятности, пути найдутся. - Теперь улыбается даже госпожа Троцкая". Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.
Правдоподобны ли обвинения, предъявленные Радеку и Пятакову? Что же касается Пятакова, Сокольникова, Радека, представших перед судом во втором процессе, то по поводу их возражения были следующего порядка: невероятно, чтобы люди с их рангом и влиянием вели работу против государства, которому они были обязаны своим положением и постами, чтобы они пустились в то авантюрное предприятие, которое им ставит в вину обвинение.
Идеологические мотивы обвиняемых. Мне кажется неверным рассматривать этих людей только под углом зрения занимаемого ими положения и их влияния. Пятаков и Сокольников были не только крупными чиновниками, Радек был не только главным редактором "Известий" и одним из близких советников Сталина. Большинство этих обвиняемых были, в первую очередь, конспираторами, революционерами; всю свою жизнь они были страстными бунтовщиками и сторонниками переворота - в этом было их призвание. Все, чего они достигли, они достигли вопреки предсказаниям "разумных", благодаря своему мужеству, оптимизму, любви к рискованным предприятиям. К тому же они верили в Троцкого, обладающего огромной силой внушения. Вместе со своим учителем они видели в "государстве Сталина" искаженный образ того, к чему они сами стремились, и свою высшую цель усматривали в том, чтобы внести в это искажение свои коррективы.
Материальный вопрос. Не следует также забывать о личной заинтересованности обвиняемых в перевороте. Ни честолюбие, ни жажда власти у этих людей не были удовлетворены. Они занимали высокие должности, но никто из них не занимал ни одного из тех высших постов, на которые, по их мнению, они имели право; никто из них, например, не входил в состав "Политического Бюро". Правда, они опять вошли в милость, но в свое время их судили как троцкистов, и у них не было больше никаких шансов выдвинуться в первые ряды. Они были в некотором смысле разжалованы, и "никто не может быть опаснее офицера, с которого сорвали погоны", говорит Радек, которому это должно быть хорошо известно.
Возражения против порядка ведения процесса. Кроме нападок на обвинение слышатся не менее резкие нападки на самый порядок ведения процесса. Если имелись документы и свидетели, спрашивают сомневающиеся, то почему не держали эти документы в ящике, свидетелей - за кулисами и довольствовались не заслуживающими доверия признаниями?
Ответ советских граждан. Это правильно, отвечают советские люди, на процессе мы показали некоторым образом только квинт-эссенцию, препарированный результат предварительного следствия. Уличающий материал был проверен нами раньше и предъявлен обвиняемым. На процессе нам было достаточно подтверждения их признания. Пусть тот, кого это смущает, вспомнит, что это дело разбирал военный суд и что процесс этот был в первую очередь процессом политическим. Нас интересовала чистка внутриполитической атмосферы. Мы хотели, чтобы весь народ, от Минска до Владивостока, понял происходящее. Поэтому мы постарались обставить процесс с максимальной простотой и ясностью. Подробное изложение документов, свидетельских показаний, разного рода следственного материала может интересовать юристов, криминалистов, историков, а наших советских граждан мы бы только запутали таким чрезмерным нагромождением деталей. Безусловное признание говорит им больше, чем множество остроумно сопоставленных доказательств. Мы вели этот процесс не для иностранных криминалистов, мы вели его для нашего народа.
Гипотезы с авантюрным оттенком. Так как такой весьма внушительный факт, как признания, их точность и определенность, опровергнут быть не может, сомневающиеся стали выдвигать самые авантюристические предположения о методах получения этих признаний.
Яд и гипноз. В первую очередь, конечно, было выдвинуто наиболее примитивное предположение, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще худших пыток были вынуждены к признанию. Однако эта выдумка была опровергнута несомненно свежим видом обвиняемых и их общим физическим и умственным состоянием. Таким образом, скептики были вынуждены для объяснения "невероятного" признания прибегнуть к другим источникам. Обвиняемым, заявили они, давали всякого рода яды, их гипнотизировали и подвергали действию наркотических средств. Однако еще никому на свете не удавалось держать другое существо под столь сильным и длительным влиянием, и тот ученый, которому бы это удалось, едва ли удовольствовался бы положением таинственного подручного полицейских органов; он, несомненно, в целях увеличения своего удельного веса ученого, предал бы гласности найденные им методы. Тем не менее противники процесса предпочитают хвататься за самые абсурдные гипотезы бульварного характера, вместо того чтобы поверить в самое простое, а именно, что обвиняемые были изобличены и их признания соответствуют истине. Советские люди только пожимают плечами
Советские люди смеются. Советские люди только пожимают плечами и смеются, когда им рассказывают об этих гипотезах. Зачем нужно было нам, если мы хотели подтасовать факты, говорят они, прибегать к столь трудному и опасному способу, как вымогание ложного признания? Разве не было бы проще подделать документы? Не думаете ли Вы, что нам было бы гораздо легче, вместо того чтобы заставить Троцкого устами Пятакова и Радека вести изменнические речи, представить миру его изменнические письма, документы, которые гораздо непосредственнее доказывают его связь с фашистами? Вы видели и слышали обвиняемых: создалось ли у Вас впечатление, что их признания вынуждены?
Обстановка процесса. Этого впечатления у меня действительно не создалось. Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя выло назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер.
Портреты обвиняемых. Помещение, в котором шел процесс, невелико, оно вмещает, примерно, триста пятьдесят человек. Судьи, прокурор, обвиняемые, защитники, эксперты сидели на невысокой эстраде, к которой вели ступеньки. Ничто не разделяло суд от сидящих в зале. Не было также ничего, что походило бы на скамью подсудимых; барьер, отделявший подсудимых, напоминал скорее обрамление ложи. Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, гипнотизеры, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств должны были быть выдающимися режиссерами и психологами.
Деловитость. Невероятной, жуткой казалась деловитость, обнаженность, с которой эти люди непосредственно перед своей почти верной смертью рассказывали о своих действиях и давали объяснения своим преступлениям. Очень жаль, что в Советском Союзе воспрещается производить в залах суда фотографирование и записи на граммофонные пластинки. Если бы мировому общественному мнению представить не только то, что говорили обвиняемые, но и как они это говорили, их интонации, их лица, то, я думаю, неверящих стало бы гораздо меньше.
Поведение. Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат, третий внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый - как раскаивающийся ученик, пятый - поучая. Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы.
Пятаков. Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясущейся острой бородой, стоял перед микрофоном и как он говорил - будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вредил в вверенной ему промышленности. Он объяснял, указывал вытянутым пальцем, напоминая преподавателя высшей школы, историка, выступающего с докладом о жизни и деяниях давно умершего человека по имени Пятаков и стремящегося разъяснить все обстоятельства до мельчайших подробностей, охваченный одним желанием, чтобы слушатели и студенты все правильно поняли и усвоили.
Рядек. Писателя Карла Радека я тоже вряд ли когда-нибудь забуду. Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывая свое превосходство актера, - надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками.
Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все - судьи, обвиняемые, слушатели - сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать - среди них близкие друзья Радека - были приговорены к смерти; Радек и трое других - только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все - обвиняемые и присутствующие - выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, повидимому, предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся.
Остальные. Трудно также забыть подробный тягостный рассказ инженера Строилова о том, как он попал в троцкистскую организацию, как он бился, стремясь вырваться из нее, и как троцкисты, пользуясь его провинностью в прошлом, крепко его держали, не выпуская до конца из своих сетей. Незабываем еще тот еврейский сапожник с бородой раввина - Дробнис, который особенно выделился в гражданскую войну. После шестилетнего заключения в царской тюрьме, трижды приговоренный белогвардейцами к смерти, он каким-то чудом спасся от трех расстрелов и теперь, стоя здесь, перед судом, путался и запинался, стремясь как-нибудь вывернуться, будучи вынужденным признаться в том, что взрывы, им организованные, причинили не только материальные убытки, но повлекли за собой, как он этого и добивался, гибель рабочих. Потрясающее впечатление произвел также инженер Норкин, который в своем последнем слове проклял Троцкого, выкрикнув ему свое "клокочущее презрение и ненависть". Бледный от волнения, он должен был немедленно после этого покинуть зал, так как ему сделалось дурно. Впрочем, за все время процесса это был первый и единственный случай, когда кто-либо закричал; все - судьи, прокурор, обвиняемые - говорили все время спокойно, без пафоса, не повышая голоса.
Почему они не защищаются? Свое нежелание поверить в достоверность обвинения сомневающиеся обосновывают, помимо вышеприведенных возражений, тем, что поведение обвиняемых перед судом психологически не объяснимо. Почему обвиняемые, спрашивают эти скептики, вместо того чтобы отпираться, наоборот, стараются превзойти друг друга в признаниях? И в каких признаниях! Они сами себя рисуют грязными, подлыми преступниками. Почему они не защищаются, как делают это обычно все обвиняемые перед судом? Почему, если они даже изобличены, они не пытаются привести в свое оправдание смягчающие обстоятельства, а, наоборот, все больше отягчают свое положение? Почему, раз они верят в теории Троцкого, они, эти революционеры и идеологи, не выступают открыто на стороне своего вождя и его теорий? Почему они не превозносят теперь, выступая в последний раз перед массами, свои дела, которые они ведь должны были бы считать похвальными? Наконец, можно представить, что из числа этих семнадцати один, два или четыре могли смириться. Но все - навряд ли.
Вот почему, - говорят советские люди. То, что обвиняемые признаются, возражают советские граждане, объясняется очень просто. На предварительном следствии они были настолько изобличены свидетельскими показаниями и документами, что отрицание было бы для них бесцельно. То, что они признаются все, объясняется тем, что перед судом предстали не все троцкисты, замешанные в заговоре, а только те, которые до конца были изобличены. Патетический характер признаний должен быть в основном отнесен за счет перевода. Русская интонация трудно поддается передаче, русский язык в переводе звучит несколько странно, преувеличенно, как будто основным тоном его является превосходная степень. (Последнее замечание правильно. Я слышал, как однажды милиционер, регулирующий движение, сказал моему шоферу: "Товарищ, будьте, пожалуйста, любезны уважать правила". Такая манера выражения кажется странной. Она кажется менее странной, когда переводят больше по смыслу, чем по буквальному тексту: "Послушайте, не нарушайте, пожалуйста, правил движения". Переводы протоколов печати похожи больше на "будьте любезны уважать правила", чем на "не нарушайте, пожалуйста, правил движения".)
Мнение автора. Я должен признаться, что, хотя процесс меня убедил в виновности обвиняемых, все же, несмотря на аргументы советских граждан, поведение обвиняемых перед судом осталось для меня не совсем ясным. Немедленно после процесса я изложил кратко в советской прессе свои впечатления: "Основные причины того, что совершили обвиняемые, и главным образом основные мотивы их поведения перед судом западным людям все же не вполне ясны. Пусть большинство из них своими действиями заслужило смертную казнь, но бранными словами и порывами возмущения, как бы они ни были понятны, нельзя объяснить психологию этих людей. Раскрыть до конца западному человеку их вину и искупление сможет только великий советский писатель". Однако мои слова никоим образом не должны означать, что я желаю опорочить ведение процесса или его результаты. Если спросить меня, какова квинт-эссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: "То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно"
Попытка объяснения. Советские люди не представляют себе этого непонимания. После окончания процесса на одном собрании один московский писатель горячо выступил по поводу моей заметки в печати. Он сказал: "Фейхтвангер не понимает, какими мотивами руководствовались обвиняемые признаваясь. Четверть миллиона рабочих, демонстрирующих сейчас на Красной площади, это понимают". Мне тем не менее кажется, что к тому, чтобы понять процесс, я приложил больше усилий, чем большинство западных критиков, и, ввиду того что советский писатель, который смог бы осветить мотивы признаний, пока еще не появился, я хочу сам попробовать рассказать, как я себе представляю генезис признания.
Сущность партийного суда. Суд, перед которым развернулся процесс, несомненно, можно рассматривать как некоторого рода партийный суд. Обвиняемые с юных лет принадлежали к партии, некоторые из них считались ее руководителями. Было бы ошибкой думать, что человек, привлеченный к партийному суду, мог бы вести себя так же, как человек перед обычным судом на Западе. Даже, казалось бы, простая оговорка Радека, обратившегося к судье "товарищ судья" и поправленного председателем "говорите гражданин судья", имела внутренний смысл. Обвиняемый чувствует себя еще связанным с партией, поэтому не случайно процесс с самого начала носил чуждый иностранцам характер дискуссии. Судьи, прокурор, обвиняемые - и это не только казалось - были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны инженерам, испытывавшим совершенно новую сложную машину. Некоторые из них что-то в этой машине испортили, испортили не со злости, а просто потому, что своенравно хотели испробовать на ней свои теории по улучшению этой машины. Их методы оказались неправильными, но эта машина не менее, чем другим, близка их сердцу, и поэтому они сообща с другими откровенно обсуждают свои ошибки. Их всех объединяет интерес к машине, любовь к ней. И это-то чувство и побуждает судей и обвиняемых так дружно сотрудничать друг с другом; чувство, похожее на то, которое в Англии связывает правительство с оппозицией настолько крепко, что вождь оппозиции получает от государства содержание в две тысячи фунтов.
Языческий пророк. Обвиняемые были приверженцами Троцкого: даже после его падения они верили в него. Но они жили в Советском Союзе, и то, что изгнанному Троцкому представлялось в виде далеких смутных цифр и статистики, для них было живой действительностью. Перед этой реальной действительностью тезис Троцкого о невозможности построения социалистического хозяйства в одной, отдельно взятой стране не мог рассчитывать на продолжительное существование. В 1935 году, перед лицом возрастающего процветания Советского Союза, обвиняемые должны были признать банкротство троцкизма. Они потеряли, по словам Радека, веру в концепцию Троцкого. В силу этих обстоятельств, в силу самой природы вещей признания обвиняемых прозвучали как вынужденный гимн режиму Сталина. Обвиняемые уподобились тому языческому пророку из библии, который, выступив с намерением проклясть, стал, против своей воли, благословлять.
Измена Троцкому. Обвиняемый Муралов восемь месяцев отрицал свою вину, пока, наконец, 5 декабря не сознался. "Хотя я, - заявил он на процессе, - и не считал директиву Троцкого о терроре и вредительстве правильной, все же мне казалось морально недопустимым изменить ему. Но, наконец, когда от него стали отходить остальные - одни честно, другие нечестно, - я сказал себе: я сражался активно за Советский Союз в трех революциях, и десятки раз моя жизнь висела на волоске. Не должен ли я подчиниться его интересам? Или мне нужно остаться у Троцкого и продолжать и углублять его неправое дело? Но тогда имя мое будет служить знаменем для тех, кто еще находится в рядах контрреволюции. Другие, независимо от того, честно или нечестно они отошли от Троцкого, во всяком случае не стоят под знаменем контрреволюции. Должен ли я оставаться таким святым? Для меня это было решающим, и я сказал: ладно, иду и показываю всю правду". Показания Радека по этому пункту, более тонкие по форме, в основном повторяют ту же мысль. Речи обоих этих людей кажутся мне, оставляя в стороне процесс, интересными в психологическом отношении. Они наглядно показывают, до какого предела могут итти люди за человеком, в чье превосходство, способность к руководству и гениальную концепцию они верят, и где начинается поворот, на котором они его оставляют.
Авантюристские и отчаянные средства, к которым решил прибегнуть Троцкий, после того как выяснилась ошибочность его основной концепции, должны были отпугнуть от него более мелких сторонников. Они стали считать его методы безумными. Они не отошли от него открыто уже раньше только потому, что не знали, как это технически обставить. "Мы бы сами пошли в милицию, - заявил Радек, - если бы она не явилась к нам раньше", и это вполне вероятно. Ведь некоторые из их соучастников действительно раньше пошли в милицию, и таким образом заговор был раскрыт.
Люди, верящие в свое дело. Возражения сомневающихся по существу правильны. Люди, верящие в свое дело, зная, что они обречены на смерть, не изменяют ему в свой последний час. Они хватаются за последнюю возможность обратиться к общественности и используют свое выступление в целях пропаганды своего дела. Сотни революционеров перед судом Гитлера заявляют: "Да, я совершил то, в чем вы меня обвиняете. Вы можете меня уничтожить, но я горжусь тем, что я сделал". Таким образом, сомневающиеся правы, спрашивая: почему ни один из этих троцкистов так не говорил? Почему ни один из этих троцкистов не сказал: "Да, ваше "государство Сталина" построено неправильно. Прав Троцкий. Все, что я сделал, хорошо. Убейте меня, но я защищаю свое дело".
Люди, не верящие в свое дело. Однако это возражение встречает убедительный ответ. Эти троцкисты не говорили так просто потому, что они больше не верили в Троцкого, потому что внутренне они уже не могли защищать то, что они совершили, потому что их троцкистские убеждения были до такой степени опровергнуты фактами, что люди зрячие не могли больше в них верить. Что же оставалось им делать, после того как они стали на неправую сторону? Им ничего другого не оставалось, - если они были убежденными социалистами, - как в последнем выступлении перед смертью признаться: социализм не может быть осуществлен тем путем, которым мы шли - путем, предложенным Троцким, а только другим путем - путем, предложенным Сталиным.
Девяносто девять или сто процентов. Но даже если отбросить идеологические побудительные причины и принять во внимание только внешние обстоятельства, то обвиняемые были прямо-таки вынуждены к признанию. Как они должны были себя вести, после того как они увидели перед собой весьма внушительный следственный материал, изобличающий их в содеянном? Они были обречены независимо от того, признаются они или не признаются. Если они признаются, то, возможно, их признание, несмотря на все, даст им проблеск надежды на помилование. Грубо говоря: если они не признаются, они обречены на смерть на все сто процентов, если они признаются, - на девяносто девять. Так как их внутренние убеждения не возражают против признания, то почему же им не признаться? Из их заключительных слов видно, что такого рода соображения действительно имели место. Из семнадцати обвиняемых двенадцать просили суд принять во внимание при вынесении приговора, в качестве смягчающего вину обстоятельства, их признание.
Траги-комический момент. Волей-неволей свою просьбу они должны были выражать приблизительно одинаковыми словами, и это, наконец, стало производить почти жуткое, трагикомическое впечатление. Во время заключительных слов последних обвиняемых все уже, нервничая, ждали этой просьбы, и, когда ее действительно произносили,- при этом каждый раз в неизбежно однообразной форме, слушатели с трудом сдерживали смех.
Для чего усиливать звук? Однако ответить на вопрос, какие причины побудили правительство выставить этот процесс на свет, пригласив на него мировую прессу и мировую общественность, пожалуй, еще труднее, чем ответить на вопрос, какими мотивами руководствовались обвиняемые. Чего ждали от этого процесса? Не должна ли была эта манифестация привести скорее к неприятным, чем к благоприятным последствиям? Зиновьевский процесс оказал за границей очень вредное действие: он дал в руки противникам долгожданный материал для пропаганды и заставил поколебаться многих друзей Союза. Он вызвал сомнение в устойчивости режима, в которую до этого верили даже враги. Зачем же вторым подобным процессом так легкомысленно подрывать собственный престиж?
Сталин - Чингис-хан. Причину, утверждают противники, следует искать в опустошительном деспотизме Сталина, в той радости, которую он испытывает от террора. Ясно, что Сталин, обуреваемый чувствами неполноценности, властолюбия и безграничной жаждой мести, хочет отомстить всем, кто его когда-либо оскорбил, и устранить тех, кто в каком-либо отношении может стать опасным.
Жалкие психологи. Подобная болтовня свидетельствует о непонимании человеческой души и неспособности правильно рассуждать. Достаточно только прочесть любую книгу, любую речь Сталина, посмотреть на любой его портрет, вспомнить любое его мероприятие, проведенное им в целях осуществления строительства, и немедленно станет ясно, что этот умный, рассудительный человек никогда не мог совершить такую чудовищную глупость, как поставить с помощью бесчисленных соучастников такую грубую комедию с единственной целью отпраздновать, при бенгальском освещении, свое торжество над повергнутым противником.
Решение. Я думаю, что решение вопроса проще и вместе с тем сложнее. Нужно вспомнить о твердой решимости Советского Союза двигаться дальше по пути демократий и, прежде всего, о существующем там отношении к вопросу о войне, на которое я уже несколько раз указывал.
Демократизация и опасность войны. Растущая демократизация, в частности предложение проекта новой Конституции, должна была вызвать у троцкистов новый подъем активности и возбудить у них надежду на большую свободу действий и агитации. Правительство нашло своевременным показать свое твердое решение уничтожать в зародыше всякое проявление троцкистского движения. Но главной причиной, заставившей руководителей Советского Союза провести этот процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, непосредственная угроза войны. Раньше троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае- ссылать. Очень действенным средством ссылка все же не является; Сталин, бывший сам шесть раз в ссылке и шесть раз бежавший, это знает. Теперь, непосредственно накануне войны, такое мягкосердечие нельзя было себе позволять. Раскол, фракционность, не имеющие серьезного значения в мирной обстановке, могут в условиях войны представить огромную опасность. После убийства Кирова дела о троцкистах в Советском Союзе разбирают военные суды. Эти люди стояли перед военным судом, и военный суд их осудил.
Два лица Советского Союза. Советский Союз имеет два лица. В борьбе лицо Союза - суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо - демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью. И факт утверждения Чрезвычайным съездом новой Конституции как раз в промежутке между двумя процессами - Зиновьева и Радека - служит как бы символом этого.
Продолжение следует
Лион Фейхтвангер - Собрание сочинений
|