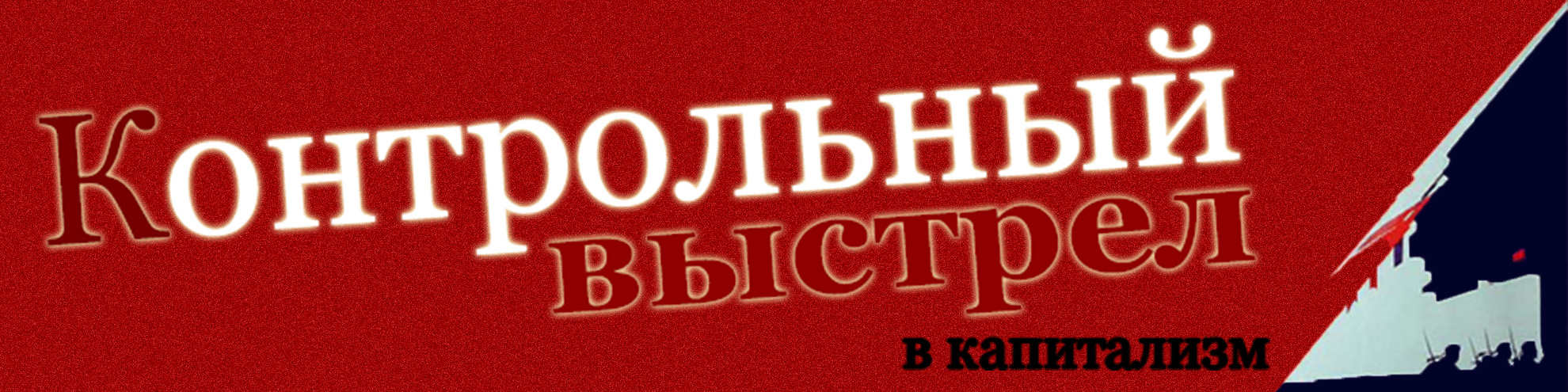1
Хорошо в пятьдесят лет иметь прошлое, не вызывающее желания забыть его. Твое прошлое, отделившееся и живущее независимой жизнью, но одновременно с тобой. Хорошо иметь при этом будущее, уверенное, хотя и не слишком очерченное, достаточно размытое, чтобы быть будущим, а не повторением прошлого и настоящего. И видеть, что кривая в будущее идет пока вверх, растет. И кривая роста растет. И кривая роста кривой роста тоже растет. И так далее - далекая экстраполяция, конечно, недопустимое превышение точности, - но загиба не видно, это факт.
Такое редко бывает в науке. В искусстве, в практических областях и в пятьдесят и в семьдесят можно работать не хуже, может быть, и лучше, чем в тридцать. Опыта больше, а дело то же: составлять новые сочетания из тех же элементов, слов, красок, положений. Накопленный опыт подхватывает и несет, сочетаний элементов бесконечно много, никогда не переделаешь, поэтому всегда открытая перспектива. В науке то, что ты уже знаешь, больше не помогает. Опыт может быть полезен, а может - вреден. Ты ничего не знаешь, ты всегда в тупике. И никто не знает, и не знал, и не мог знать. Кроме бога, замыслившего этот мир. Последний термин - для нас и для древних в равной мере - формулировка веры в красоту и смысл среди хаоса. Неколебимой и недоказуемой, как и надлежит быть истинной вере.
Повезло ли ему в жизни? Наверное, надо ответить: да. Только люди со сверхдарованием мало подвержены превратностям судьбы. Его нормальные исходные данные не могут одни объяснить его значение в науке.
Но и не то чтобы сочетание случайных обстоятельств выдвинуло его. Не слепое везение. Нет, у него было дополнительное качество, определившее успех. Качество, тоже само по себе не такое редкое, как не редко и научное дарование. Но у него оказалось одновременно два качества, может быть, надо сказать - несколько, очень гармонично сочлененных.
Он обладал умом. В самом бесхитростном смысле слова, не вызывающим еще необходимости углубленного анализа этого понятия, анализа, от которого возникает лишь зыбкость. Большинство людей, талантливых в науке, тоже обладают умом. Но их ум подчинен дарованию, его высшему назначению. Это хорошо, это освобождает от неплодотворных сомнений, позволяет идти вперед не оглядываясь, не думая о последствиях. Но это и вредит. Это приводит к неоправданной настойчивости, то есть упрямству, к потере понимания границ своих и своего направления возможностей, постепенной деформации личности.
У него был свободный ум. У него был yм, способный критически оценивать других и себя. Этот ум никак внешне не проявлял себя в период ученичества, проб и поисков, по-видимому, у него, у ума, не было тогда других функций, кроме наблюдения. А потом - это было всего дважды или трижды за всю жизнь - ум сумел сделать правильный выбор. В жизни человека вообще бывает немного таких моментов, два-три обычно, когда умный поступок решительно отличается от глупого. И то это отличие бывает видно только много времени спустя. В этом и состоит главная трудность в анализе качеств ума. Но теперь прошло много лет, и факт: он поступил правильно, он поступил счастливо, он поступил умно. И в том не было натуги, не было ставки на карьеру. Все было органично. Может быть, ум, собственно, здесь и ни при чем. Но какое-то свойство, не важно, как назвать, свойство, не слепая стихия.
Первым таким поступком было возвращение домой. Теперь видно, какой это был решающий, мудрый и смелый шаг. А как легко он был совершен, почти без размышлений. Он был единственным из группы шести молодых людей, отправленных «для дальнейшего усовершенствования», кто вернулся, не воспользовавшись возможностью остаться в одном из научных центров страны. Центров со сложившейся научной атмосферой, традициями, материальными возможностями для экспериментальной работы. А дома была пустота. Он это хорошо понимал. И после восьми лет жизни в насыщенной атмосфере вернулся в пустоту.
Он вовсе не был слабейшим из этих шести. Может быть, наоборот, сильнейшим, хотя вся группа была сильной. И все стремились к настоящей науке, и все друг друга поддерживали. Скорей он был не сильней других, а только образованней. Конечно, оказаться в такой компании, отправиться вместе туда, где делается наука, было уже жизненной удачей, но удачей «нормальной», так сказать, рядовой и естественной.
По-видимому, идея возвращения была подготовлена всем строем его поведения в течение всего этого периода, столь отличным от принятого его товарищами. Каждый из них довольно быстро нашел себя, «стал человеком». Но их впитала и так давно и хорошо удобряемая почва многочисленных научных центров. Эта почва плодоносила и без них, продолжает плодоносить и теперь. Внесли ли они свой вклад в развитие науки? Да, конечно, но что это реально значит? Только вклад гениев, истинных гигантов что-нибудь означает после того, как прошло двадцать-тридцать лет. Но про гениев - это приятно читать в книжках. Сами же они за минуты божественного озарения платили годами последующих страданий в попытках сделать еще что-нибудь в том же масштабе, если только не оказывались сверх того счастливцами, умиравшими молодыми.
Его товарищи находились в центрах настоящей живой науки, развивая интересные направления, делали хорошие работы. И на это ушли их годы, их двадцать и несколько сверх того лет. Вот его ближайший друг Борис. Он работал у Федора, он первый досконально измерил характеристики закиси меди. Он первый наблюдал дырочную проводимость. Кто сейчас помнит об этом? Конечно, в указателе трехтомника «Полупроводники» можно найти перечень четырех десятков его публикаций. Но кто ими пользуется? Даже в диссертациях упоминают скопом: «Ссылки на более ранние работы можно найти в***». Это специалисты. А «широкая публика»? Когда-го хоть было утешение ее принципиальной неосведомленности, теперь и этого нет: «Как же, слышали, транзисторы и все такое".»
Второй товарищ работал у Димича. Интерференционные опыты в разных диапазонах. Было интересно? Да; Остался ли след? Не ясно, скорее нет. Потому что молодые люди, занимающиеся локацией планет, вряд ли могут понять, что его тогда волновало. Так в небытие ушли и остальные: кто расставлял счетчики на горных пиках, кто исхитрялся домашним способом и без затрат сжижать газы. Об этом можно лишь прочитать в развлекательных сборниках, среди других анекдотов.
Трагедия или только трагикомедия, но возникло какое-то несоответствие: время, отсчитывающее смену поколений в науке, опережает биологическое время. Его сверстников встречают с удивлением, в котором внешняя почтительность прячет насмешку: как, вы еще живы? Так бы встретили хоть самого Ньютона с его громоздкими методами расчетов и грубыми спектрографами. Но Ньютон успел умереть, пока современники осваивали его методу. Умереть еще не понятым - насколько это лучше, чем жить полностью усвоенным, то есть превзойденным и ненужным.
В отличие от своих товарищей он долго · не вступал на четкую колею. Он поработал и у Федора, и у Димича, и у Белого, и у других, сделал работы, мог бы продолжать, но не остался ни у кого. Вначале им двигала любознательность, мешавшая полному сосредоточению. Зато он приобрел многих впоследствии удивлявшую широту. Широта не может не нести в себе элементов дилетантства. Но все зависит от масштабов, чувства меры и способности к самоконтролю (ум! Он обладал умом). Он проработал достаточно в каждой области, чтобы не только понимать, но и чувствовать, что как делается. Он не знал лишь того, что набирается уже по крохе в течение многих лет и делает людей безусловными авторитетами в определенной узкой области,такими и стали его товарищи. При этом он четко себе представлял, чего не знает и с кем и по какому вопросу полезно побеседовать.
Они добродушно подтрунивали друг над другом, он называл их «занудами», они его - «продюсером». Он их шокировал, утверждая, что их трудолюбие есть лишь маскировка лени.
- Вы тратите девять десятых времени на пайку и заклейку течей в установке и кажетесь себе героями - тружениками, не гнушающимися черной работы ради науки. А это всего лишь умственная лень, дешевая растрата сил. А я за то же время продумаю новые постановки опытов, рассчитаю эффективность установки и прикину, подумаю, зачем вообще все это нужно в свете вот этой новой работы Имре. - И он помахивал свежим выпуском журнала.
- А что там?
Имя знаменитого теоретика делало их робкими; вообще, занимаясь слишком много проверкой теоретических предсказаний, они испытывали священный ужас перед неожиданными поворотами теоретической мысли. А он не боялся теории, не боялся расчетов (у него даже была совместная с Имре работа), это был его главный козырь перед экспериментаторами классической школы - такими были воспитаны его товарищи.
- Это незаконный прием, - говорили они ему. - Ты можешь так великолепно бахвалиться именно потому, что мы тратим жизнь на пайку. Но никто за нас это не сделает, и тогда опыты остановятся и твои новые установки и формулы Имре будут ни к чему.
- Ценю ваше смирение, - отвечал он, - но отвергаю выводы, я не собираюсь жить за чужой счет. У меня никто не будет паять и проверять течи. Я спроектирую установку, а выполнит ее промышленность. И это не будет жизнью за чужой счет, потому что конструкторам и технологам будет интересно делать эту установку и, кроме того, они научатся на ней делать другие подобные вещи для разных других нужд. И установка будет изготовлена так, что две или три недели будет работать безотказно, а потом пойдет на слом. И за эти две-три недели будет выполнена серия измерений не над двумя десятками образцов, над которыми вы мучаетесь здесь, а над десятью тысячами образцов или десятью миллионами. А образцы эти, различные сплавы, мне изготовят металлурги, и им будет интересна эта работа, и они извлекут из этой работы пользу по своей части. И над данными измерений тоже никто не будет корпеть, ни я сам, ни лаборанты или студенты. Измерения будут записаны и представлены в обозримой форме. Как? Этим будут заниматься люди, посвятившие себя специфической, интересной для них области - это будут математики, слаботочники и так далее. Потому что век университетских форм науки заканчивается, начинается индустриальный век.
- Интересно, а что будешь делать ты сам?
- А я буду работать. Я буду сидеть в своей рабочей комнате за своим большим столом. А на столе будет все, что помогает работать: хорошая бумага, например, последняя работа Имре, прочее в таком роде. А позади стола на стене - большой экран. И я скажу: «Маша, покажи-ка, как там влияла присадка ниобия». И на экране появится кривая, температура перехода как функция содержания ниобия. «Так, а теперь дай кривые Холл-эффекта для этих образцов». На экране появится серия кривых. «Хорошо, отпечатай мне их в полулогарифмическом масштабе». И я протяну руку к левому углу стола и выну из лотка кривые. А потом я напечатаю формулу, суну ее в прорезь справа и скажу: «Маша, это надо проинтегрировать при параметрах, взятых из Б-двадцать четыре, и сделать фит на кривые частотной зависимости К-один, укажи ошибки». Вот так я буду работать-не отрываясь, не суетясь. Когда на экране загорится надпись «Закончен пересчет подобия для проекта П-двенадцать», я скажу: «После контроля rю К-три на выход». Вот как я буду работать.
Все весело смеялись, он громче всех.
- А где же это все будет помещаться - твой продюсерский оффис и «Маша»? - Конечно, у нас дома, в Байгуре.
Стало еще веселее, Борис долго не мог прийти в себя. Уже, казалось, успокоившись, он снова вскакивал, хлопал друга по плечам и лопаткам и кричал как пьяный:
-В Байгуре! Ах ты молодец! Слушайте, в Байгуре!
Это было в тот вечер, когда он так легко и просто закончил. первый период своей жизни и отправился в неизвестность - домой, в Байгур.
2
В купе было еще двое. Почему такой темно-синий папа, когда такая светлая дочка? Потом он вспоминал и не мог понять, как это он сразу решил, что это отец и дочь, больше уже никогда он не замечал между ними сходства. Папа испытующе посмотрел из-под темно-синих бровей и произнес:
- Очень приятно.
А дочка протянула руку и сказала:
-Маша.
Он едва не прыснул, настолько еще находился сам под впечатлением своей недавней неожиданной импровизации и возбужден ею.
- А у меня тоже есть Маша, - вдруг ответил он. Она удивленно подняла глаза, с обидой, как ему показалось. Инстинктивной обидой молодой девушки на молодого человека, у которого уже есть своя Маша,-это вовсе не означает, что она сама хотела бы стать его Машей, это безусловный рефлекс.
Он поторопился объяснить, кто такая его Маша. Сначала это получилось сбивчиво и неубедительно, следовательно, непонятно. «Маша не женщина», «Маша - машина» - объяснения выглядели по-дурацки, Маша морщилась, как от вульгарных слов, а папа ерзал и прятал голову в плечи. Потом вдруг как для самого себя, не поясняя терминов, не рассказывая, как возник этот образ, он стал продолжать описание своей рабочей комнаты со столом и экраном, своего диалога с Машей, удивительных способностей, которыми она обладает. И Маша - эта Маша в купе - стала светлеть, тень обиды исчезла. И когда папа надумал с запозданием спасать положение, начал приготовления ко сну, а он встал, Маша громко и безапелляционно сказала: «Нет, нет», положила пальцы обеих своих рук на кисть его руки и потребовала:
- Пожалуйста, еще про Машу.
И все восемь суток пути прошли под знаком Маши. Как ему было интересно выдумывать и рассказывать все новые истории про Машу. И как Маше было смешно и интересно узнать, что Маша в отличие от людей, уже умея вычислять со страшной скоростью, совсем еще не умела узнавать лица, как она постепенно научилась слышать, а говорить и по сей день предпочитает письменно.
- А читать она умеет? Да, она так быстро и толково это делает, что он избалован и почти перестал сам читать. Маша прочтет, четко изложит суть, жидкость отожмет, ерунду опустит, из тома сделает две страницы и положит на стол. Можно попросить ее перечитать, обратив внимание специально на какой-то вопрос. Она помнит все, что он знает, из новой литературы она включает в свои сводки только то, что действительно ново. Один раз он попросил ее помочь редакции журнала (он произнес длинный набор терминов, образующих заглавие журнала). Дело в том, что журнал задыхался от потока статей. За два дня Маша прочитала и запомнила всю литературу по тематике журнала. После этого она устроила буквально разгром редакционного портфеля, найдя в нем только четыре абзаца новизны. Редакция была смущена, извинилась и отказалась от дальнейших услуг. Но Маша не поняла и продолжала свою деятельность. Покончив с портфелем, она приступила к выбраковке статей из уже вышедших из печати томов. И не хотела останавливаться, пока не выключили питание.
Маша хохотала, и, поощряемый ее смехом, он смело стал выводить Машу за рамки служебной деятельности. Вдруг он, к ужасу своему, почувствовал, что буксует на месте, повторяя одну и ту же схему с примитивной подстановкой одних слов вместо других. То Маша быстро штудирует кулинарную книгу и с виртуозностью готовит банкет. То Маша изучает теорию джаза, овладевает синкопами и голубыми тонами и делает блюз из хорала Баха. Он почувствовал, как покрывается испариной. Непосредственность исчезла, голова стала быстро наполняться пустотой, язык во рту разросся и одеревенел. Он замолчал, погружаясь в трясину.
Заметила это Маша или нет, но она его выручила. К счастью, по поводу Баха и джаза ей было что сказать, и он мог вздохнуть. Маша сама была музыкантом, она окончила училище в Байгуре, и целью их нынешней поездки был выбор места для дальнейшего учения, теперь решено, что через год она поступит в Рижскую консерваторию. И когда он поверил, что катастрофы не произошло, Маша вернула ему инициативу: она опять взяла в свои пальцы кисть его руки и сказала:
- Ну пожалуйста, еще про Машу. Как на самом деле. Я, наверное, пойму, я способная.
И он обрел дар речи. Наверное, тогда в нем и проснулся педагогический талант, о котором по сей день не забывают упомянуть, когда хотят перечислить, что он сделал в своей жизни. Он потом всегда жалел, что не нашел времени восстановить то, что он тогда рассказывал Маше, увы, такое невосстановимо. То, что делалось потом, было лишь слабой тенью этого рассказа. Да он не рассказывал о науке, не излагал ее, освещение не попадало на объект от постороннего источника, объект освещался изнутри. Но скорей всего это ему так показалось; может быть, это было так интересно, могло быть так интересно только им двоим?
О чем он говорил? Как будто обо всем и без системы. Но это было не так (или ему только казалось), все было пронизано замечательно стройной логикой. Он начал с того, что рассказал, как работает лифт и как работает автоматическая телефонная станция. И что нужно, чтобы лифт принимал заказы от всех пассажиров на всех этажах и сам разбирался в очередности и возможности остановок. Потом выяснилось, что количество кнопок и проводов катастрофически растет, и вот непринципиальные досадные обстоятельства переходят в разряд главных, тогда они перестают быть досадными, а становятся уже интересными и благородными. Потом был рассказ об электронах и о вакуумной трубке. Отступление о том, что такое остроумие, когда речь идет не о сочетании слов, а о сочетании явлений. Потом следовала история радиолампы. Потом шла притча о зернах на шахматной доске. Он извинился:
- Я не сомневаюсь, что притча вам известна, но я подробно расскажу, чтобы вы услышали, как неожиданно надвигается бесконечность. Сначала ничего, кладем на первую клетку два зерна, на вторую четыре, на десятую приблизительно тысячу, ничего страшного, сколько это, скажем, сто грамм. А на двадцатую сто килограмм, а на тридцатую сто тонн - тоже еще ничего страшного, но ведь клеток шестьдесят четыре, а шаги приближаются.
Здесь, на тридцатой клетке, пришлось сделать перерыв. Потому что перерывы для сна были. Других не было. Восемь суток. Папа мог слушать, если хотел, но развитие продолжалось и без него, когда папа изнемогал и уходил, чтобы прилечь.
Назавтра он уже сам не совсем понимал, какой особо яркий и таинственный смысл он вкладывал в эти самые шаги бесконечности. Назавтра шла другая глава. Что такое память и как извлекать нужный предмет из переполненной кладовой. Почему умственное развитие не передается по наследству или не происходит автоматически, как физическое развитие организма. Почему есть произведения искусства, которые не могут надоесть, - в них актуальная бесконечность элементов.
- Пожалуйста, прервите меня, можно на любом месте.
- Нет, очень прошу вас, все про Машу.
На шестой день папа решительно настроился выяснить, кто же, в конце концов, их молодой попутчик и есть ли у него серьезная профессия. За завтраком он умоляюще-строго посмотрел на дочь и начал обстоятельно рассказывать о своей работе в гидрологическом управлении, о Машиных успехах, о поездке в Ригу и другие города, о родственниках, живущих в этих городах. Говорил он долго и тягуче, все время казалось, что его речь вот-вот иссякнет и он мучительно думает, как ее продолжить, а продолжать он должен, хотя сам не заинтересован в том, чтобы его слушали. Он только ждет, он все время вопрошающе подымал глаза, ждет, чтобы его прервали и стали ему рассказывать то, что ему интересно. Маша была погружена во что-то свое, затем обвела взглядом обоих мужчин и улыбнулась.
- Сергей - физик, папа, он будет работать в Байгуре.
- В Байгуре? - Папа почувствовал облегчение оттого, что Маша взяла нить разговора в свои руки, теперь он мог задавать вопросы.
- В Байгуре? В какой школе? - Термин «физик» вызывал у него только гимназические ассоциации, таким было его время.
Сергей будет профессором в университете. (Он не говорил ей этого.)
- Профессором, университете, Байгуре, - как-то растерянно, как текст телеграммы, повторил папа.
- Да, в Байгуре ведь есть университет, помнишь помещение Первой гимназии? Сергей получил степень и теперь будет в нашем университете.
- Из столицы... в наш.
- Да, он создаст здесь школу. (Тоже ее собственный вымысел.)
- Школу, да ... да ...
Видно было, что папа совсем запутался, отказывается верить чему бы то ни было, но сдается, затраченные усилия переутомили его. В остальные дни он просто выключился. Быть отцом взрослой дочери нелегко.
Повезло ли ему в жизни? Да, и это случилось тогда, когда он поехал в Байгур и приехал уже с Машей.
з
У них не было детей, но была большая семья и шумный дом. Центром его была Маша, а заполнением - ребята, его мальчики. Они как-то сразу появились вокруг него, чуть ли не в первую неделю после его возвращения в Байгур. Во всяком случае, когда осенью ему отгородили под квартиру бывшую малую рекреационную бывшей Первой гимназии, то ребята уже участвовали под Машиным руководством в ремонтных работах. И сумели втащить в квартиру большую классную доску, это без Машиного ведома, когда она спохватилась, было поздно, проход был замурован. Так у них дома появилась «классная». В этой классной сразу же пошли занятия, веселые, нерегулируемые, нескончаемые. У ребят был оборудован лаз, при помощи которого они могли «поддерживать состояние приличия», то есть появляться иногда на официальных занятиях. Конечно, фиговый листок, все было всем известно, но в «Первой гимназии» смотрели на это сквозь пальцы.
Смотрели сквозь пальцы и даже поощряли, потому что любили его. Вообще со дня приезда он чувствовал себя будто погруженным в струю фена, потока горячего воздуха, подымающегося с моря, переползающего горный хребет и делающего такими неожиданно теплыми предрассветные часы на противоположном склоне. Такое бывает только в старых, далеких от мировых центров городах, в которых жизнь еле теплится, но десятилетиями и веками хранится не то память, не то сон об иной, возвышенной жизни. А сон создает единение, разрушааемое лишь пробуждением. И он не встретил ни зависти, ни подозрительности, а встретил доброжелательство и гордость как за сына, отчего становилось неловко. Все знали и все радовались, что вот вернулся Сергей Бозых, а он восемь лет провел в столицах, он знаком со всеми мировыми светилами и он профессор и доктор наук, а молодой, и что-то такое он тут совершит, отчего их город, их край станут интересней, значительнее. Тот факт, что здесь нашлись мальчики, тоже следствие духовной атмосферы такого города, этих мальчиков не найдешь среднестатистически распределенными пропорционально плотности населения. Плотность определяет только общую массу мозгов, но не их направленность, способность к проявлению; для последнего нужна история - здесь существовала история. Без такого благодатного и возбуждающего материала, каким были его мальчики, невозможны были бы все эти «игры», полностью поглотившие его на несколько лет.
Интересно, как память человеческая сохраняет только внешние и, вообще говоря, случайные обстоятельства, как она не способна непосредственно фиксировать процессы, происходящие в глубине, единственно имеющие объективный смысл. Это свойство памяти иногда возмущает своей несправедливостью, но человечество примирилось и признало его неизбежность, человечество использует его на пользу истории, нарочито как бы устраивая ритуалы, которые, не имея абсолютного смысла сами по себе, содержат указания, служат метками, зарубками: смотри, подумай, здесь что-то было. Может быть, существовали цивилизации, поднявшиеся столь высоко, что не терпели уже ничего внешнего, - о них мы потому ничего и не знаем.
Мальчики же были юными создателями новой цивилизации - и они творили ритуалы. Они провозгласили образование академии под названием «Скола Прима де ла Байгур», сокращенно СПБ. Ребята получили торжественное звание сколаров, а он сам -титул Боза Сколы. Его дом стал именоваться Бозонией. Вообще награждать кличками, причем так крепко, что вскоре все, включая самого окрещенного, уже и не помнили, что тот когда-то назывался иначе, было органично для ребят и не содержало ни малейшей нарочитости. Это было их близостью к детству. Какой удачей было то, что в смысле принадлежности к поколению он оказался для них еще на грани «своего». Важную роль в таком сближении сыграла Маша, которая действительно была их ровесницей. Поэтому он стал Бозом не только заочно, но и в лицо. Маша имела титул Бозини Сколы, но вскоре стала просто Машенькой - тут не было фамильярности, потому что это было не ласкательным именем, а прозвищем, как другие. И все они были на ты - как это произошло и как быстро, трудно вспомнить, периода на вы он просто не помнит, хотя такой должен был существовать. Но ритуала перехода не было - это значит, что и барьеров для перехода не было.
Потом было торжественно решено, что раз есть академия, то, во-первых, она должна заседать - и в Бозонии стали еженедельно собираться хуралы. Во-вторых, она должна издавать свои труды. Они будут печататься в виде отдельных выпусков «Известия из Сколы Прима де ла Байгур», сокращенно ИСПБ. Затея имела неожиданные по масштабу последствия.
Началось с того, что на очередном «классе» каждому сколару было предложено к следующему понедельнику представить свой проект множительного аппарата.
- Главное для решения любой задачи,-заявил он (в этот период он любил произносить перед ребятами назидательные речи), - это убеждение, что решение есть и оно доступно. Мы с вами знаем десятка два эффектов: магнитооптических, фотоэлектрических, гальваноэлектрических и других, для того чтобы найти удачную комбинацию для решения нашей практической задачи.
Он говорил неправду, потому что между возможностью в принципе и действующим устройством лежит пропасть, преодолеть которую научные средства в собственном смысле бессильны. Здесь господствует совершенно другая. но столь же удивительная, как наука, область человеческого духа - технология. Наука и технология (первая всегда пользовалась второй, потом вторая добилась быстрого продвижения благодаря первой) - это разные, совсем разные миры. Он говорил неправду как отец, прикрывающий своих детей от холода этого мира,-иначе невозможно войти в мир и такова родительская миссия. На самом же деле у него уже была припасена технологическая идея. Его широта включала любовь к хитрой технологии, недаром он поработал у Белого, еще тогда он припас и запрятал в памяти на будущее свою идею. Он подсунул ее ребятам невзначай тогда, когда они проанализировали десяток принципиальных возможностей и сами почувствовали, что возникает именно технологическая проблема.
Тогда они начали конструировать и строить и сконструировали и построили «множительный аппарат широкой апертуры», сокращенно МАША, ставший материальной основой для издания ИСПБ. Эта работа тоже была веселой игрой и продолжалась свыше трех лет.
Первый выпуск ИСПБ содержал описание и чертежи аппарата МАША. Потом пошли регулярные выпуски с продолжениями «Байгурской школы». Это было изложение их «классов», его лекций. Чего он только не читал своим ребятам в первые годы! Даже математику он не хотел уступать посторонним, когда она предназначалась для его мальчиков. «До сих пор принято излагать математику так, - писал он потом в предисловии к типографскому изданию первого тома «Байгурской школы», - как если бы автор имел перед собой крайне подозрительного и недоверчивого читателя или слушателя, который все время полон решимости уличить автора в передергивании. Отсюда главные усилия - не жалеть средств, сил и времени; строгость и логическая безупречность. Моя аудитория - это доверчивые юноши, им нужен язык, инструмент для работы, они знают, что я их не обману». «Байгурская школа» появилась удивительно своевременно, когда во всем мире стали ощущать необходимость реформ преподавания, она не опережала время, она лишь реализовала то, что требовал современный уровень.
«Байгурскую школу» стали переиздавать и переводить, и в течение десятилетия она завоевала мир. Так выпуски ИСПБ приобрели известность. Заинтересовавшись их содержанием, обратили внимание на новую технику издания. И всем захотелось печатать и рассылать свои работы поскорей, без рецензентов и типографий, без преувеличенной ответственности. Это начиналась новая эра в научном общении. Это восстанавливалась старинная традиция - ученые обмениваются письмами с изложением своих опытов и размышлений. И в Байгур полетели запросы: нельзя ли приобрести экземпляр МАША, нельзя ли приобрести лицензию на производство МАША, нельзя ли приехать в Байгур для знакомства с техникой МАША?
Байгур ликовал. Конечно, никто не сомневался в Сергее Бозых, но все-таки никто не был непосредственно подготовлен к успеху: переход уверенности в действительность - одно из самых удивительных явлений. Было созвано специальное заседание местного исполнительного совета для обсуждения вопроса о концентрированном развитии Байгура как центра производства научного оборудования и автоматических устройств. Было решено создать производственную фирму с исследовательским центром. От Бозых потребовали обеспечения научным руководством и кадрами. В этот решающий момент он опять оказался подготовленным. У него был сформулированный организационный принцип. Принцип состоял в том, что гвардия при любых обстоятельствах не растрачивается, не распыляется. Его «Скола» остается университетской ветвью. Она расширяется, но ее финансирование никак не должно связываться с доходами, которые принесет фирма или любое другое предприятие подобного типа, которое может возникнуть впредь. Финансирование должно быть стабильным и консервативным, то есть предсказуемым. Развитие и расширение будет, естественно, обеспечиваться тем, что будет фиксировано не абсолютное число в денежных единицах, а относительное число как доля общего дохода края. Эта идея понравилась своей простотой, необычностью и отсутствием пугающих обычно многозначных цифр и легко прошла законодательные инстанции. Конечно, потом, когда коэффициент перевода этого малого относительного числа в именованное число, денежные единицы, стал катастрофически расти, его неоднократно уменьшали. Но сам принцип остался нетронутым - и это было главным, принцип обеспечил ему в решающие моменты желанную свободу рук.
Большие затруднения вызвала проблема официального наименования «Сколы», ибо, с одной стороны, ясно, что нельзя оставлять этот детский набор слов, а с другой - сочетание букв ИСПБ уже всемирно известно, так что надо подобрать имя под эти инициалы. В конце концов, остановились на названии, которое звучало - особенно поначалу, потом привыкли и перестали замечать - напыщенно и смешно. Так возник Институт синтетических проблем в Байгуре, сокращенно ИСПБ.
4
А пока на видимой поверхности происходили эти события, в глубине шли настоящие серьезные процессы - мальчики зрели.
Первым возник Ном. Когда он стал тем, кем продолжает оставаться и сейчас для байгурской школы? По-видимому, в самый ранний период. Для ребят практически мгновенно. Об этом свидетельствует само имя - Ном. Оно образовалось от «номер», подразумевалось «первый номер». В тот период, когда происходило образование имен, ребята увлекались собственной классификацией. Их возраст и преданность науке делали эту игру бесстрастной и точной. Место Нома было для них столь очевидно, что второй номер после него уже никому не был присужден. Сравнительным анализом легко установить, что элементы цифры «три» прослеживаются в ряде имен-прозвищ, следов же «два» или «второй» нет вовсе, между Номом и остальными оставлен интервал. Потом классификация усложнилась, стала многомерной и наконец потонула, затерялась в чисто звуковой канве.
Уже на первых своих «классах» он ощутил на себе этот взгляд, в котором, иначе не сформулируешь, были элементы магического. Это и был Ном, студент, который «все знал» - таково было абсолютное убеждение его товарищей. Эта вера имела, конечно, и благотворное обратное влияние на Нома - под давлением ее невозможно было ни в каком случае сдаться, не найти решение: ведь «Ном все может». Во взгляде Нома было веселье, для него было наслаждением узнавать новое. Во взгляде Нома было внимание и требовательность, он был ненасытен и ждал незамемительного продолжения: дальше, это ясно, а что дальше? И во взгляде Нома было одобрение и доверие, которым поневоле дорожишь.
Уж он постарался тогда, чтобы этому парню не было скучно. Он нагружал его задачами, рано впряг в ярмо текущего потока литературы. Он подбрасывал еще и еще. И Ном принимал. Быстро, спокойно, уверенно. И, приняв, сохранял навсегда, ничего не терял. И действительно «все знал». Давно уже привык он сам: при затруднении, с новой мыслью или «просто так» первый порыв - надо поговорить с Номом.
Какая это непостижимая вещь, способность восприятия науки. Не ее внешних форм, не концепций, не рецептов, а живого существа. Что такое это «существо»? Его невозможно выразить, всякое изложение науки тоже только ее внешняя форма, «мысль изреченная». Факты, теории - это камни ее здания, а камни мертвы. Живое можно наблюдать только в живом носителе. Таким носителем был Ном.
И Ном был его учеником. Сам Имре поздравил его с таким учеником, когда Нам опубликовал свою «Теорию систем с отрицательной температурой». Это он сформировал Нома в настоящего теоретика, это частица его духа возгорелась так ярко. Но его дух не исчерпывался Номом, у него был еще Ксы.
Имя Ксы, заменившее детское Кась, свидетельствовало о полном равнодушии его обладателя к принятому произношению букв греческого алфавита. С таким же равнодушием он относился и к любому алфавиту и любой грамматике. Замечательно, что это ему не мешало, а скорее помогало при общении с иностранцами. Там, где другие, лучше его знавшие язык, должны были все же думать о построении фраз, Ксы непринужденно обходился несколькими английскими глаголами и существительными, большинство последних были интернациональными терминами. И его лучше понимали, он лучше излагал свои мысли, потому что думал только о сути дела. Ненамного тщательнее он строил свою речь и на родном языке. Это была не неряшливость, не косноязычие, это была постоянная сосредоточенность на своем, на «деле». Чужие «дела», конечно, тоже существуют, он их в принципе уважает, в частности и искусство слова и науку о слове, но к его делу они не имеют отношения, для своего дела он должен пользоваться наиболее экономичными средствами извне, самыми необходимыми. Его отношение к математике не отличалось от отношения к языку. Ее изящные способы выражения, ее удивительной общности образы - это тоже было важным, достойным и уважаемым «делом», но не его делом. Наверное, если бы не предупредительная помощь его друга Нома и не понимание учителя, не преодолеть бы ему своего органического неприятия требований официальной учебной программы.
Что было его делом, у Ксы не было сомнений. Он воссоздавал явления природы. Явления не лежат на поверхности вещей, их надо выделить из хаоса повседневности. Для этой цели Ксы умел придумывать и делать приборы, установки. Когда они выполняли свою миссию, он безжалостно уничтожал вещественные доказательства годов труда - приборы как таковые его не интересовали, его интересовали явления.
По мере того как эксперименты Ксы усложнялись, это его пренебрежение к вещам стало угрожать местью с их стороны. Схемы, источники, насосы загромождали беспорядочно столы, стулья и пол, провода, шланги пересекались запутанными гирляндами, малейшее неосторожное движение расстраивало хлипкую гармонию опыта, и явление исчезало. Приходилось все заново проверять, заново монтировать, нетерпение оборачивалось потерей времени.
Трудно сказать, удалось ли бы Ксы обуздать свою чрезмерную стремительность и немного переделать свой характер. Тут вмешалось всевидящее око Боза, который имел твердое убеждение, что переделывать свой характер человеку не стоит, что каждый должен развивать то, что ему дано. Он невзначай подсунул Ксы компаньонов, Тера и Рика. Теру не надо было делать над собой усилие, чтобы уйти на время от основной цели, заменив ее другими техническими, технологическими.
Рик шел еще дальше в этом направлении. Он обладал особым вкусом к архитектуре вещей. Он испытывал неудовлетворенность и внутреннее беспокойство, если элементы установки располагались «некрасиво». Некрасиво -означало без внутреннего смысла, если можно так и эдак, как случайно получилось, без однозначной определенности. Красота есть, например, в механизме часов, где ни одно колесико нельзя сдвинуть, чтобы не нарушить основное свойство системы - способность хода. Красоты нет в схеме, в которой лампы, трансформаторы, конденсаторы можно располагать почти как попало. Это эстетическое преимущество механических систем над электрическими травмировало Рика. Когда нет красоты - это значит, что соответствующая область находится еще в эмбриональном периоде своего развития. Годы Рик искал и ждал -одному невозможно повлиять на целую область,-и время пришло, и Рик занялся разработкой интегральных электронных элементов, замечательных приборов с наперсток величиной, заменивших целые горы ламп, сопротивлений, конденсаторов, вороха кабелей и прочего.
Вскоре эта троица так срослась, что получила общее прозвище - Териксы. Легенда утверждает, что вообще никто никогда их не видел порознь, а на изобразительных памятниках эпохи они сохранились в образе трехглавого крота на гусеничном ходу, вгрызающегося в каменный грунт.
Явление надо не только воссоздавать, но и измерять. Без измерений нет и явлений. Новые явления требовали новых типов измерительных приборов - Териксы умели их придумывать и осуществлять. Что остается после того, как явление воссоздано и измерено? Остаются числа: но иметь дело с числами - это ведь математика. Нет, это не математика, или, точнее, не та математика, которую К.сы пропускал мимо своего сознания. Такая математика была уже его делом, и он прекрасно умел обращаться с ней. Для этого тоже было достаточно нескольких «глаголов» и «существительных» и устремленности к сути дела. Замечательно, что появление быстродействующих счетных машин явилось торжеством психологии Ксы. Потому что оказалось, что язык, на котором человек может говорить с машиной, выдавать ей задания, запрашивать у нее сведения, состоит только из двух десятков слов, самых простых слов, среди которых нет даже таких, как «синус» или «логарифм».
Он, Боз Сколы, сформировал и Нома, и Ксы, столь разных, как символы теории и эксперимента, и Тера, и Рика, и Фоку, возникновение которого было внешне совсем алогичным. Этот студент производил впечатление живущего во сне, невозможно было понять, что же его интересует. Он как бы нехотя и лениво, словно проявляя снисходительность, лишь давал возможность обнаружить существовавшие у него знания, почему формально к нему нельзя было придраться.
Читать далее
Источник
|