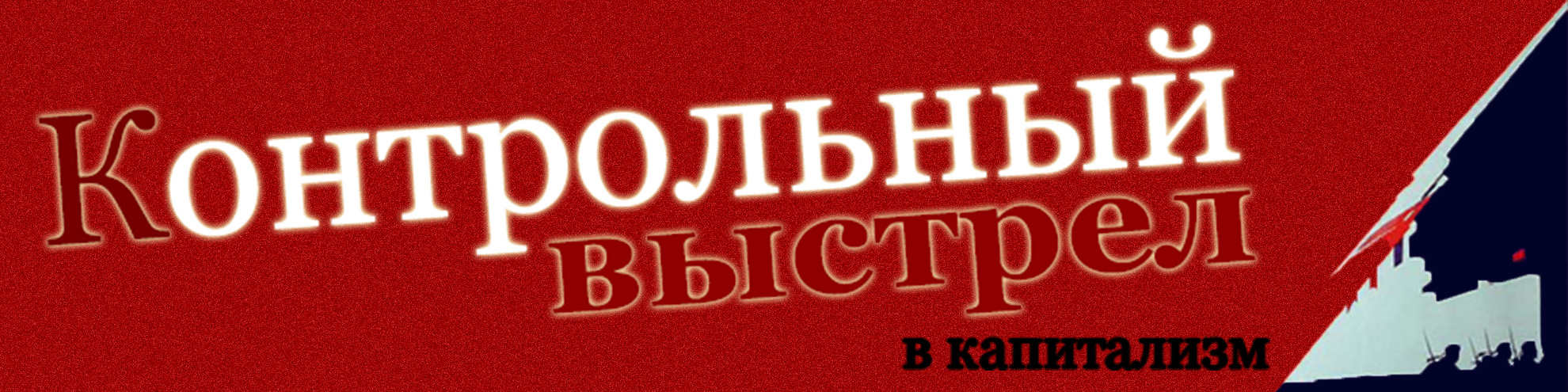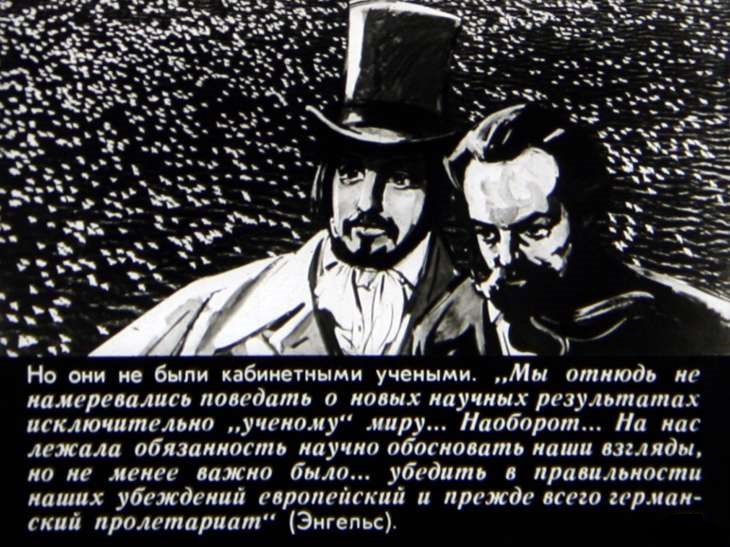
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ
Последовательность, в которой должны быть рассмотрены различные отряды пролетариата, вытекает сама собой из вышеизложенной истории его возникновения. Первые пролетарии появились в промышленности и были её прямым детищем; поэтому мы прежде всего обратимся к промышленным рабочим, т. е. тем, которые занимаются обработкой сырья. Добыча материала для промышленности, т. е. сырья и топлива, приобрела значение лишь вследствие промышленного переворота, и только тогда мог создаться новый вид пролетариата, а именно рабочие угольных копей и рудников. В третью очередь развитие промышленности повлияло на сельское хозяйство и в четвёртую — на Ирландию, чем и определяется последовательность, в которой мы будем изучать соответствующие категории пролетариата. Мы также увидим, что, за исключением разве ирландцев, уровень развития различных рабочих находится в прямой зависимости от их связи с промышленностью, что, следовательно, промышленные рабочие лучше всех сознают свои интересы, горнорабочие уже хуже, а сельскохозяйственные рабочие ещё почти совсем их не сознают. Мы обнаружим эту зависимость также и в рядах самого промышленного пролетариата: мы увидим, что фабричные рабочие — эти первенцы промышленной революции — с самого начала и до настоящего времени являлись ядром рабочего движения и что остальные рабочие примыкали к движению в той мере, в какой их ремесло захватывалось промышленным переворотом. Таким образом, на примере Англии, наблюдая это соответствие между рабочим движением и промышленным развитием, мы лучше поймём историческое значение промышленности.
Но так как в настоящий момент почти весь промышленный пролетариат уже охвачен движением и положение отдельных его отрядов, именно в силу того, что они все заняты в промышленности, имеет много общего, то мы сначала изложим эти общие черты, чтобы потом тем более подробно рассмотреть отдельные группы в их характерных особенностях.
Выше мы уже показали, каким образом промышленность централизует собственность в руках немногих. Она требует крупных капиталов, при помощи которых создаёт колоссальные предприятия, разоряя этим ремесленную мелкую буржуазию, и подчиняет себе силы природы, вытесняя с рынка ремесленника - одиночку. Разделение труда, использование силы воды и в особенности силы пара, применение машин — вот те три великих рычага, при помощи которых промышленность с середины XVIII века расшатывает устои старого мира. Мелкая промышленность создала буржуазию, крупная создала рабочий класс и возвела немногих избранных из рядов буржуазии на трон, но только затем, чтобы тем вернее когда-нибудь их низвергнуть. Пока же остаётся неоспоримым и легко объяснимым тот факт, что многочисленная мелкая буржуазия «доброго старого времени» была уничтожена промышленностью и выделила из своей среды богатых капиталистов, с одной стороны, и бедных рабочих — с другой {Ср. мои «Наброски к критике политической экономии»[2].
Но централизующая тенденция промышленности этим не ограничивается. Население так же централизуется, как и капитал; и это вполне естественно, ведь в промышленности человек, рабочий, рассматривается лишь как своего рода капитал, который сам себя предоставляет в пользование фабриканту, за что тот платит ему проценты под названием заработной платы. Крупное промышленное предприятие требует совместного труда многих рабочих в одном помещении; эти рабочие должны жить поблизости: даже при небольшой фабрике они образуют целый посёлок. У них есть известные потребности, для удовлетворения которых нужны ещё люди: ремесленники, портные, сапожники, пекари, каменщики, столяры селятся тут же. Население посёлка, в особенности молодое поколение, приучается к работе на фабрике, свыкается с ней; когда первая фабрика уже не может, что вполне естественно, обеспечить работой всех желающих, заработная плата падает, и результатом является обоснование в данной местности новых фабрикантов. Так посёлок превращается в городок, а городок в большой город. Чем больше город, тем выгоднее в нём обосноваться: тут и железная дорога, и каналы, и шоссе; выбор обученных рабочих становится всё больше; благодаря конкуренции в строительном деле и в производстве машин организация новых предприятий тут, где всё под рукой, обходится дешевле, чем в более отдалённых местностях, куда нужно предварительно доставить не только строительный материал и машины, но и строительных и фабричных рабочих; тут рынок, биржа, где встречаются покупатели; тут есть непосредственная связь с рынками сырья и сбыта готовых товаров. Этим обусловливается поразительно быстрый рост больших фабричных городов. — Правда, деревня, в свою очередь, имеет перед городом то преимущество, что там обычно можно дешевле нанять рабочих. Таким образом, конкуренция между деревней и фабричным городом не прекращается, и если сегодня преимущество на стороне города, то завтра заработная плата в деревне упадёт настолько низко, что станет более выгодным строить новые фабрики в деревне. Но централизующая тенденция промышленности остаётся при этом в полной силе, и каждая новая фабрика, построенная в деревне, носит в себе зародыш фабричного города. Если бы эта бешеная гонка промышленности могла так продолжаться ещё сотню лет, каждый из промышленных округов Англии превратился бы в один громадный фабричный город, и Манчестер и Ливерпуль встретились бы где-нибудь возле Уоррингтона или Ньютона. Эта централизация населения идёт тем же путём и в торговле, и потому несколько больших гаваней, как Ливерпуль, Бристоль, Гулль и Лондон, монополизируют почти всю морскую торговлю Великобритании.
Так как в этих больших городах промышленность и торговля наиболее развиты, то последствия этого развития по отношению к пролетариату здесь наиболее ясно выступают наружу. Здесь централизация собственности достигает своего апогея; здесь нравы и отношения доброго старого времени наиболее радикально уничтожены; здесь дело зашло так далеко, что слова «Old merry England» [Добрая старая Англия] уже никому ничего не говорят, потому что об «Old England» никто уже не знает даже по воспоминаниям и из рассказов стариков. Здесь имеется только класс богатых и класс бедных, ибо мелкая буржуазия с каждым днём всё более исчезает. Мелкая буржуазия, этот некогда наиболее устойчивый класс, стала теперь классом наиболее подвижным; она состоит ещё из немногих обломков прошлой эпохи и из людей, жаждущих обогатиться, в полном смысле слова рыцарей наживы и спекуляции, из которых один, быть может, и разбогатеет там, где девяносто девять обанкротились, причём из этих девяносто девяти более половины существует только банкротством.
Но огромное большинство населения в этих городах образуют пролетарии, и мы сейчас рассмотрим, какова их жизнь, какое влияние оказывают на них большие города.
БОЛЬШИЕ ГОРОДА
Такой город, как Лондон, по которому бродишь часами, не видя ему конца и не встречая ни малейшего признака того, что где-нибудь поблизости начинается открытое поле, — такой город представляет из себя нечто совсем особенное. Эта колоссальная централизация, это скопление двух с половиной миллионов людей в одном месте умножили силы этих двух с половиной миллионов людей в сотню раз; они превратили Лондон в торговую столицу мира, создали гигантские доки и собрали те тысячи кораблей, которые всегда покрывают Темзу. Я не знаю ничего более внушительного, чем вид Темзы, когда с моря подъезжаешь к Лондонскому мосту. Эти массы домов, верфи с обеих сторон и в особенности со стороны Вулиджа, бесчисленное множество судов вдоль обоих берегов, всё плотнее и плотнее смыкающихся и под конец оставляющих лишь узенькое пространство посередине реки, по которому постоянно снуют сотни пароходов,—всё это столь величественно, столь грандиозно, что не можешь опомниться и приходишь в изумление от величия Англии ещё до того, как вступишь на английскую землю[3].
Но каких жертв всё это стоило, — это обнаруживаешь только впоследствии. Только потолкавшись несколько дней по главным улицам, с трудом пробиваясь сквозь толпы людей, бесконечные вереницы экипажей и повозок, только побывав в «трущобах» мирового города, начинаешь замечать, что лондонцам пришлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой природы, чтобы создать все те чудеса цивилизации, которыми полон их город, что заложенные в каждом из них сотни сил остались без применения и были подавлены для того, чтобы немногие из этих сил получили полное развитие и могли ещё умножиться посредством соединения с силами остальных. Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека. Разве эти сотни тысяч, представители всех классов и всех сословий, толпящиеся на улицах, разве не все они — люди с одинаковыми свойствами и способностями и одинаковым стремлением к счастью? И разве для достижения этого счастья у них не одинаковые средства и пути? И тем не менее они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен держаться правой стороны, чтобы встречные толпы не задерживались; и при этом никому и в голову не приходит удостоить остальных хотя бы взглядом. Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий принцип нашего современного общества, всё же нигде эти черты не выступают так обнажённо и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигает здесь своего апогея.
Отсюда также вытекает, что социальная война, война всех против всех провозглашена здесь открыто. Подобно любезному Штирнеру, каждый смотрит на другого только как на объект для использования; каждый эксплуатирует другого, и при этом подучается, что более сильный попирает более слабого и что кучка сильных, т.е. капиталистов, присваивает себе всё, а массе слабых, т.е. беднякам, едва-едва остаётся на жизнь.
Всё, что можно сказать о Лондоне, применимо также к Манчестеру, Бирмингему и Лидсу, ко всем большим городам. Везде варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и неописуемая нищета — с другой, везде социальная война, дом каждого в осадном положении, везде взаимный грабёж под охраной закона, и всё это делается с такой бесстыдной откровенностью, что приходишь в ужас от последствий нашего общественного строя, которые выступают здесь столь обнажённо, и уже ничему не удивляешься, разве только тому, что в этом безумном круговороте всё до сих пор ещё не разлетелось прахом.
Так как оружием в этой социальной войне является капитал, т.е. прямое или косвенное обладание жизненными средствами и средствами производства, то ясно, что все невыгоды такого положения падают на бедняка. О нём не заботится никто; брошенный в этот засасывающий водоворот, он должен пробиваться как умеет. Если ему посчастливилось найти работу, т.е. если буржуазия милостиво согласилась на нём наживаться, его ждёт заработная плата, которой едва хватит, чтобы удержать душу в теле; если же он не нашёл работы, он может воровать, если не боится полиции, или умереть с голоду, а полиция уж позаботится о том, чтобы он умер тихо, не нарушая покоя буржуазии. За время моего пребывания в Англии умерло от голода в прямом смысле слова при самых возмутительных условиях по меньшей мере 20—30 человек, и редко можно было встретить присяжных, достаточно смелых, чтобы открыто признать это при осмотре трупа. Показания свидетелей могли быть ясны и недвусмысленны, но буржуа, из числа которых выбирались присяжные, всегда находили лазейку, чтобы уклониться от страшного вердикта: «Умер от голода». Буржуазия не смеет в таких случаях сказать правду: это означало бы для неё произнести свой собственный приговор. Но ещё гораздо больше людей умирает не в прямом смысле от голода, а от его последствий: постоянное недоедание вызывает смертельные болезни и умножает число жертв; оно настолько истощает организм, что случаи, которые при других условиях окончились бы вполне благополучно, неизбежно приводят к тяжёлым заболеваниям и смерти. Английские рабочие называют это социальным убийством и обвиняют в этом непрерывно совершаемом преступлении всё общество. Разве они не правы?
Конечно, умирают от голода всегда только единицы. Но кто даст рабочему гарантию, что завтра не наступит и его черёд? Кто обеспечит ему работу? Кто ему поручится, что, если завтра хозяин по какому-либо поводу или без всякого повода уволит его, он сможет просуществовать со своей семьёй до тех пор, пока другой хозяин не согласится «предоставить ему кусок хлеба»? Кто убедит рабочего в том, что одного желания работать достаточно, чтобы найти работу, что честность, трудолюбие, бережливость и все прочие добродетели, рекомендуемые ему мудрой буржуазией, действительно приведут его к счастью? Никто. Рабочий знает, чем он располагает сегодня, и знает также, что от него самого не зависит, будет ли у него что-нибудь завтра; он знает, что любой пустяк, любая прихоть работодателя, любая заминка в торговле могут снова столкнуть его в тот страшный водоворот, из которого он на время спасся и в котором трудно, часто невозможно, удержаться на поверхности. Он знает, что если у него сегодня и есть возможность просуществовать, то далеко нет уверенности в том, будет ли она у него завтра.
Перейдём, однако, к более подробному исследованию того положения, к которому социальная война приводит неимущий класс. Посмотрим, какое жилище, какую одежду и пищу общество даёт рабочим в уплату за их работу, какое существование оно обеспечивает тем, кто более всего способствует существованию общества. Начнём с жилища.
Каждый большой город имеет свои густо заселённые рабочим классом трущобы, расположенные в одном или нескольких районах. Правда, часто нищета ютится в тесных закоулках в непосредственной близости от дворцов богачей, но обычно ей отведён совершенно отдельный участок, в котором, вдали от глаз более счастливых классов, она должна сама перебиваться, как умеет. Эти трущобы во всех городах Англии в общем одинаковы; это самые отвратительные дома в самой скверной части города, чаще всего вереницы двухэтажных или одноэтажных кирпичных зданий, почти всегда расположенных в беспорядке, с жилыми подвалами во многих из них. Такие домики, состоящие из трёх-четырёх комнат и кухни, называются коттеджами и составляют во всей Англии, за исключением некоторых частей Лондона, обычное жилище рабочего. Улицы здесь обычно немощёные, грязные, с ухабами, покрыты растительными и животными отбросами, без водостоков и сточных канав, но зато со стоячими зловонными лужами. Неправильная, беспорядочная застройка таких частей города мешает вентиляции, а так как множество людей живёт здесь на небольшом пространстве, то легко можно представить себе, какой воздух стоит в этих рабочих районах. К тому же улицы в хорошую погоду служат ещё для сушки белья: от одного дома к другому, через улицу, протягиваются верёвки, увешанные мокрым тряпьём.
Изучим некоторые из этих трущоб. Начнём с Лондона[4], с его знаменитого «вороньего гнезда» (rookery) Сент-Джайлс, которое теперь, наконец, прорезано несколькими широкими улицами и таким образом обречено на уничтожение. Сент-Джайлс расположен в середине самой населённой части города, окружён блестящими, широкими улицами, по которым фланирует лондонский высший свет, совсем близко от Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, от Трафалгар-сквера и Стрэнда. Это — беспорядочное нагромождение высоких трёх-четырёхэтажных домов, с узкими, кривыми и грязными улицами, не менее оживлёнными, чем главные улицы города, с той только разницей, что в Сент-Джайлсе можно увидеть почти исключительно представителей рабочего класса. Тут же на улице идёт торговля; корзины с овощами и фруктами — всё, разумеется, дурного качества и почти несъедобное — ещё более загромождают проход, и от всего этого, как и от мясных лавок, исходит отвратительный запах. Дома, от подвала до самой крыши битком набитые жильцами, настолько грязны снаружи и внутри, что ни один человек, казалось бы, не согласится в них жить. Но всё это ничто в сравнении с жилищами, расположенными в тесных дворах и переулках между улицами, куда можно попасть через крытые проходы между домами и где грязь и ветхость не поддаются описанию; здесь почти не увидишь окна с целыми стёклами, стены обваливаются, дверные косяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, двери сколочены из старых досок или совершенно отсутствуют, ибо в этом воровском квартале они собственно не нужны, так как нечего красть. Повсюду кучи мусора и золы, а выливаемые у дверей помои застаиваются в зловонных лужах. Здесь живут беднейшие из бедных, наиболее низко оплачиваемые рабочие, вперемешку с ворами, мошенниками и жертвами проституции. Большинство из них — ирландцы или потомки ирландцев, и даже те, которых ещё не засосал водоворот морального разложения, окружающий их, с каждым днём всё более опускаются, с каждым днём всё более и более теряют силы противиться деморализующему влиянию нужды, грязи и ужасной среды.
Но лондонские трущобы не ограничиваются Сент-Джайлсом. В огромном лабиринте улиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков, дома в которых слишком плохи для всех тех, кто имеет возможность хоть сколько-нибудь расходовать на более человеческое жильё, и такие пристанища жесточайшей нищеты можно найти часто в непосредственном соседстве с прекрасными домами богачей. Так, в связи с освидетельствованием одного трупа, местность у самого Портман-сквера, где проживает очень приличная публика, была недавно охарактеризована как обиталище «массы ирландцев, деморализованных грязью и нищетой». На таких улицах, как Лонг-Эйкр и другие, хотя и не аристократических, но всё же приличных, имеется множество подвалов, из которых вылезают на дневной свет болезненные детские фигурки и полуголодные женщины в лохмотьях. В непосредственной близости от театра Друри-Лейн, второго театра в Лондоне, расположены некоторые из худших улиц города: Чарлз-стрит, Кинг-стрит и Паркер-стрит, Дома там тоже от подвала до самой крыши заселены только бедными семьями. В приходах Сент-Джон и Сент-Маргарет в Вестминстере, согласно данным журнала Статистического общества, в 1840 г. 5 366 рабочих семейств занимали 5 294 квартиры, если это можно назвать «квартирами»; мужчины, женщины и дети, всего 26 830 человек, были скучены, невзирая на возраст и пол, и три четверти этих семейств имели лишь по одной комнате. В аристократическом приходе Сент-Джордж на Ганновер-сквере в тех же условиях проживало, согласно тому же источнику, 1465 рабочих семейств, всего до 6000 человек; и здесь свыше двух третей всего числа семейств имело каждое не более одной комнаты. И как нищета этих несчастных, у которых даже вор уже не надеется ничего найти, эксплуатируется имущими классами под прикрытием закона! В вышеупомянутых отвратительных домах у Друри-Лейн взимается следующая квартирная плата: две комнаты в подвале стоят 3 шилл. в неделю (1 талер), комната в первом этаже—4 шилл., во втором этаже — 4½ шилл., в третьем этаже—4 шилл. и комната под крышей — 3 шиллинга. Таким образом, одни только голодные обитатели Чарлз-стрит платят домовладельцам ежегодную дань в 2 тыс. ф. ст. (14 тыс. талеров), а вышеупомянутые 5 366 семейств в Вестминстере выплачивают в год 40 тыс. ф. ст. (270 тыс. талеров) квартирной платы.
Но самый крупный рабочий район лежит к востоку от Тауэра в Уайтчапеле и Бетнал-Грине, где сконцентрирована главная масса лондонских рабочих. Послушаем, что говорит о состоянии своего прихода г-н Г. Олстон, пастор церкви Сент-Филиппс в Бетнал-Грине:
«Здесь имеется 1 400 домов, в которых живёт 2 795 семейств, около 12 тыс. человек. Пространство, на котором размещается это многочисленное население, имеет в общей сложности меньше 400 ярдов (1 200 футов) в квадрате, и при такой тесноте нередко муж, жена, четверо-пятеро детей, а иногда и бабушка и дедушка ютятся в одной-единственной комнате в 10—12 футов в квадрате и здесь работают, едят и спят. Я думаю, что пока епископ Лондонский не обратил внимание общества на этот до крайности бедный приход, о нём здесь, в западной части города, знали не больше, чем о дикарях Австралии и Южной Океании. Стоит только увидеть собственными глазами страдания этих несчастных, посмотреть, как они скудно питаются, как они надломлены болезнью и безработицей, и перед нами раскроется такая бездна беспомощности и нужды, что нация, подобная нашей, должна была бы устыдиться одной её возможности. Я был пастором близ Хаддерсфилда в течение тех трёх лет, когда фабрики работали хуже всего, и тем не менее я никогда там не встречал такой безнадёжной нищеты, какую увидел в Бетнал-Грине. Во всей округе едва ли найдётся один отец семейства из десяти, у которого есть другая одежда, кроме рабочего платья, да и то состоит из одних лохмотьев; многим из них нечем покрыться ночью, кроме этих же лохмотьев, а постелью им служит лишь мешок с соломой или стружками».
Уже из одного этого описания можно себе представить, как обычно выглядят эти жилища. Для более полной картины мы последуем ещё за некоторыми английскими чиновниками, которым приходится иногда посещать такие пролетарские жилища.
По случаю осмотра трупа 45-летней Анны Голуэй г-ном Картером, следователем из Суррея, 14 ноября 1843 г., в газетах было описано жилище умершей. Она занимала вместе со своим мужем и 19-летним сыном маленькую комнату в № 3 по Уайт-Лайон-корт, Бермондси-стрит, в Лондоне; там не было ни кровати, ни постельных принадлежностей, ни какой-либо мебели. Мёртвая лежала рядом со своим сыном на куче перьев, которые пристали к её почти голому телу, ибо не было ни одеяла, ни простыни. Перья так крепко облепили весь труп, что его нельзя было исследовать, пока его не очистили, и тогда врач нашёл его крайне истощённым и сплошь искусанным насекомыми. Часть пола в комнате была сорвана, и вся семья пользовалась этим отверстием в качестве отхожего места.
В понедельник 15 января 1844 г. два мальчика предстали перед полицейским судом на Уоршип-стрит, в Лондоне, по обвинению в том, что они, мучимые голодом, украли из лавки полусырую телячью ногу и тут же съели её. Судья почувствовал необходимость затребовать дальнейшего расследования и получил от полицейских следующие сведения. Мать этих мальчиков — вдова отставного солдата, впоследствии полицейского, после смерти мужа, оставшись с девятью детьми, очень бедствовала. Она жила в № 2 на Пулз-плейс, Квакер-стрит, в Спиталфилдсе, в крайней нищете. Когда полицейский явился к ней, он застал её вместе с шестью из её детей буквально втиснутыми в небольшой чулан без всякой мебели, кроме двух старых плетёных стульев без сидений, столика с двумя сломанными ножками, щербатой чашки и маленькой миски. В очаге ни следа огня, а в углу — кучка лохмотьев, которую можно было бы унести в женском переднике, но которая служила постелью для всей семьи. Укрывались они своей нищенской одеждой. Несчастная женщина рассказала судье, что в прошлом году ей пришлось продать свою кровать, чтобы достать пропитание; простыни свои она оставила в бакалейной лавке в виде залога за кое-какие съестные припасы, и вообще ей всё пришлось продать, чтобы только раздобыть хлеб для семьи. — Судья выдал этой женщине значительное пособие из кружки для бедных.
В феврале 1844 г. полицейскому судье на Марлборо-стрит указали на вдову Терезу Бишоп, 60 лет, с её 26-летней больной дочерью, которые нуждались в пособии. Жили они в № 5 по Браун-стрит у Гросвенор-сквера в маленьком чулане, размером не больше шкафа, без всякой мебели. В углу лежали какие-то лохмотья, на которых обе женщины спали; ящик служил одновременно столом и стулом. Мать кое-что зарабатывала как уборщица. Как показал хозяин квартиры, они были в таком положении с мая 1843 г., постепенно продавали или закладывали всё, что у них ещё было, и тем не менее за квартиру ни разу не платили. — Судья выдал им 1 ф. ст. из кружки для бедных.
Я не хочу утверждать, что все лондонские рабочие живут в такой нищете, как эти три семейства. Я прекрасно знаю, что там, где общество совсем затоптало одного, десятерым живётся несколько лучше. Но я утверждаю, что тысячи трудолюбивых и честных семей, гораздо более честных, более достойных уважения, чем все лондонские богачи, вместе взятые, находятся в этом недостойном человека положении и что каждого пролетария — каждого без исключения — может постигнуть такая судьба без всякой вины с его стороны и вопреки всем его стараниям её избежать.
И всё же тот, кто имеет хоть какой-нибудь кров, счастливец по сравнению с бездомными. В Лондоне каждый день 50 тыс. человек, просыпаясь утром, не знают, где они проведут следующую ночь. Счастливейшие из них, которым удаётся приберечь до вечера пару пенсов, отправляются в один из так называемых ночлежных домов (lodging-house), которых множество во всех больших городах, и за свои деньги находят там приют. Но какой приют! Дом сверху донизу заставлен койками; в каждой комнате по четыре, пять, шесть коек — столько, сколько может вместиться. На каждой койке спят по четыре, по пять, по шесть человек, тоже столько, сколько может вместиться, — больные и здоровые, старые и молодые, мужчины и женщины, пьяные и трезвые, все вповалку, без разбора. Начинаются всевозможные споры, драки, избиения, а если товарищи по койке столкуются между собой, то получается ещё хуже; сговариваются о совместной краже или совершают поступки столь звериного свойства, что для них нет слов на нашем человеческом языке. А те, которые не могут заплатить и за такой ночлег? Те спят, где придётся — в пассажах, под арками или в каком-нибудь углу, где полиция или домохозяева не нарушат их покоя. Некоторым удаётся попасть в приюты, устроенные кое-где средствами частной благотворительности, другие спят на скамейках в парках, под самыми окнами королевы Виктории. Послушаем, что писала газета «Times» в октябре 1843 года:
«Из помещённого вчера полицейского отчёта видно, что в среднем человек пятьдесят ночует каждую ночь в парках без всякой защиты от непогоды, кроме деревьев и нескольких углублений вдоль набережных. Это в большинстве случаев молодые девушки, соблазнённые солдатами, привезённые в столицу и брошенные в этом чужом городе на произвол судьбы, на голод и нужду, во всей беспечности и необузданности раннего порока.
«Это поистине ужасно. Бедняки будут всегда. Нужда везде найдёт себе дорогу и во всём своём отвратительном виде всегда сумеет поселиться в сердце большого и богатого города. В тысяче узеньких улиц и переулков многомиллионной столицы всегда будет, как нам кажется, много страданий, много такого, что оскорбляет глаз, или такого, что никогда не всплывает наружу.
«Но чтобы в районе, где сосредоточено богатство, веселье и блеск, рядом с королевской резиденцией Сент-Джемс, возле роскошного Бейсуотерского дворца, в районе, где встречаются старый и новый аристократические кварталы, где современное изысканное строительное искусство не оставило ни единой бедняцкой ХИЖИНЫ, В местности, отведённой, казалось бы, исключительно для наслаждения богачей, — чтобы здесь поселились нужда и голод, болезни и всевозможные пороки со всеми их ужасами, со всем тем, что так разрушает и тело и душу, — это поистине чудовищно!
«Самые возвышенные наслаждения, которые могут доставить физическое здоровье, духовная деятельность, невинные удовольствия, и в непосредственном соприкосновении с этим — полнейшая нищета! Богатство, блестящие салоны, весёлый смех, беспечный, но жестокий смех рядом с неведомыми богатому страданиями нужды! Веселье, бессознательно, но жестоко издевающееся над страданиями стонущих внизу! Здесь столкнулись, здесь борются все противоречия, кроме порока, вводящего во искушение, и порока, поддающегося искушению... Но пусть люди помнят одно: что в самом блестящем квартале богатейшего в мире города каждую ночь, зимой, из года в год можно найти женщин, молодых летами, но старых пороками и страданиями, отверженных обществом, сгнивающих заживо вследствие голода, грязи и болезней. Пусть люди это помнят и научатся действовать, а не рассуждать. Видит бог — арена для такой деятельности в настоящее время имеется очень широкая!»
Я говорил выше о ночлежных домах для бесприютных. Насколько они переполнены, покажут нам два примера. Во вновь устроенном «убежище для бесприютных» на Аппер-Огл-стрит, которое может приютить на ночь 300 человек, провели по одной или по нескольку ночей со дня его открытия, 27 января, по 17 марта 1844 г. всего 2 740 человек; и, хотя наступило более благоприятное время года, число желающих попасть туда и в приюты на Уайткросс-стрит и в Уоппинге сильно возрастало, и каждую ночь приходилось многим бесприютным отказывать в приёме за недостатком места. — В другом убежище, в центральном приюте на Плейхаус-Ярд за первые три месяца 1844 г. перебывало в среднем по 460 человек за ночь, всего 6 681 человек, и было роздано 96 141 порция хлеба. При всём том, согласно заявлению руководящего комитета, это заведение рода. — Расположение Эдинбурга как нельзя более благоприятствует такому отвратительному состоянию жилищ. Старый город расположен на обоих склонах небольшой возвышенности, по гребню которой проходит главная улица (high-street). От этой главной улицы отходит в обе стороны под гору множество узких кривых переулков, прозванных вследствие их извилистости, wynds [извилинами. Ред]; они-то и образуют пролетарскую часть города. Дома в шотландских городах вообще строятся высокими, в пять, шесть этажей, как в Париже, и в противоположность Англии, где каждый по возможности стремится занимать отдельный домик, населены множеством семейств; крайняя скученность людей на небольшом пространстве от этого ещё усиливается.
Продолжение следует
Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса
Издание второе
Том 2 IX/1844 - II/1846 [pdf]
Ф. ЭНГЕЛЬС. ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ.
По собственным наблюдениям и достоверным источникам 231-517
К РАБОЧЕМУ КЛАССУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 235-237
ПРЕДИСЛОВИЕ 238-240
ВВЕДЕНИЕ 243- 259
Положение рабочих до промышленной революции. - Дженни. - Возникновение промышленного и сельскохозяйственного пролетариата. - Ватер-машина, мюль-машина, механический ткацкий станок, паровая машина. - Победа машины над ручным трудом. - Развитие промышленной мощи. - Хлопчатобумажная промышленность. - Чулочновязальное производство. - Кружевное производство. - Беление, набивка, крашение. - Шерстяная промышленность. - Льняная промышленность. - Шёлковая промышленность. - Производство и обработка железа. - Угольные копи. - Гончарное производство. - Сельское хозяйство. - Шоссе, каналы, железные дороги, пароходы. -
Резюме. - Вопрос о пролетариате приобретает национальное значение.-Взгляд буржуазии на пролетариат.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ 260-262
Различные отряды пролетариата. - Централизация собственности. -
Рычаги современной промышленности. - Централизация населения.
БОЛЬШИЕ ГОРОДА 263-310
Непосредственное впечатление, производимое Лондоном. - Социальная война и система всеобщего ограбления. - Удел бедняков. - Общее описание трущоб. - В Лондоне:
Сент-Джайлс и прилегающие кварталы. - Уайтчапел. - Внутреннее устройство пролетарских жилищ. - Бездомные в парках. - Ночные убежища. - Дублин. - Эдинбург.
- Ливерпуль. - Фабричные города: Ноттингем, Бирмингем, Глазго, Лидс, Брадфорд,
Хаддерсфилд. - Ланкашир: общие замечания. - Болтон. - Стокпорт. - Аштон-андер-Лайн. - Стейлибридж. - Подробное описание Манчестера: общая система застройки.
- Старый город. - Новый город. - Способ застройки рабочих кварталов. - Дворы и
переулки. - Анкотс. - Малая Ирландия. - Хьюлм. - Солфорд. - Резюме. - Ночлежные дома. -Скученность населения.-Жилые подвалы.- Одежда рабочих. - Питание. - Испорченное мясо. - Фальсификация продуктов. - Неправильные весы и пр.
- Общий вывод.
|