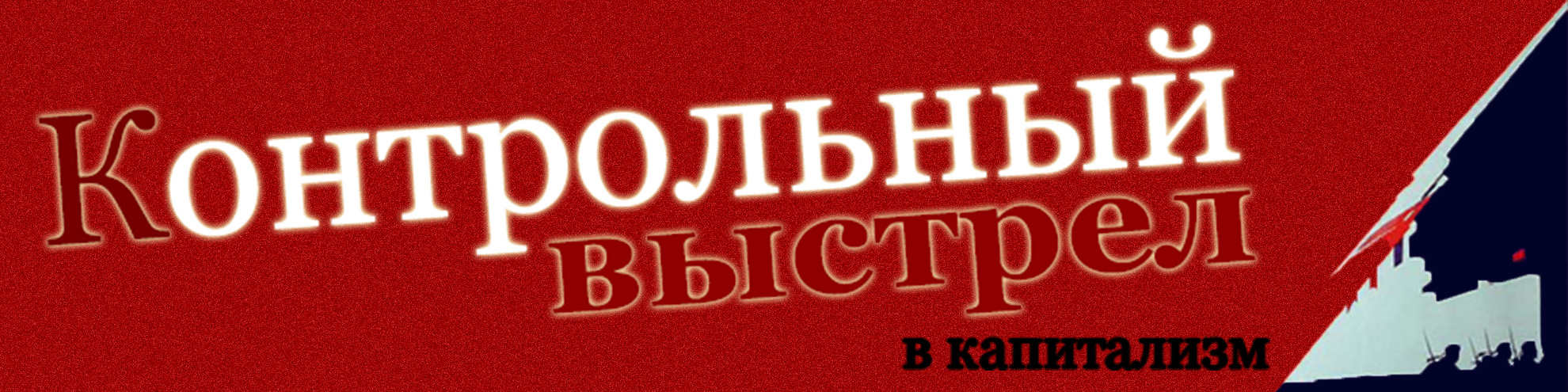Минута молчания
По слухам, на далеком Западе первую минуту новогодней встречи принято уделять молчанию. В полной тишине, еще до выпивки, любое респектабельное семейство устремляет глаза на люстру и благоговейно размышляет о вечности. Сие представляется им подобием кошеля, куда время ссыпает пепел надежд и отработанную человечью кость. Холодок бежит по спинам... Безмолвие осветительного прибора понимается там как прощение мелких (или не очень мелких) гадостей, содеянных в минувшем году, и как благословение на будущее... Затем звон хрусталя заглушает шаги маятника над бездной.
Наше новогодье приходится, в сущности, на ноябрь. Моим современникам тоже не спится в эту ночь. Им хочется глядеть на звезды и даже потолковать с ними о пройденном тридцатилетии и человеческой судьбе. Звезды любят говорить с людьми, хотя обычно в круг их собеседников входят лишь астрономы, мореходы да начинающие мудрецы. Старожилы неба, звезды давно наблюдают за развитием жизни на земле и могли бы поделиться впечатлениями о фазах ее деятельности — от мерцательных движений первоклетки до антисоветских речей некоторых, скажем, высших и просвещенных организмов на Генеральной Ассамблее..
— Н-да,— приблизительно так сказали бы звезды, если бы удалось осуществить такое интервью,— наблюдение за землей составляет наше любимое занятие. Нам нравятся люди, мы помним их начальные шаги к совершенству, мы приветствовали наступление их могущества... но нас крайне смущает кое-что в поведении людского племени.
Время от времени непонятное зарево затопляет землю, и горелый трупный смрад шлейфом несется за нею по вселенной. Некоторые предположили, что происходит крупная заготовка говядины, но никто не сумел объяснить, почему люди так сосредоточенно занимаются самоистреблением; это уже не диктуется проблемами ширпотреба и продснабжения, как во времена Монтесумы, когда враг рассматривался как источник обмундирования и вкусное питательное блюдо. При этом гибнут не только железнодорожные постройки или музеи, полные красивых вещиц, но и наиболее выдающиеся по силе и отваге экземпляры людской породы, а это когда-нибудь скажется на вашем биологическом уровне. Нам кажется поэтому, что люди при таких условиях живут в постоянном страхе перед своим завтра,— и в этом смысле беспамятное существование амебы имеет свои привлекательные преимущества.
Следует предположить, что какая-то лихорадка перемежающегося безумия гложет человечество, ибо немыслимо в здравой памяти стрелять по счастью из пушек. Печальнее всего, что потенциал разрушения па наших глазах грозит перерасти ваш созидательный потенциал. Взгляните, к примеру, на этого пожилого господина по ту сторону большой воды, который воодушевленно размахивает каким-то исключительно опасным предметом, грозя превратить вашу планету в звездочку одиннадцатой величины. О, мы готовы потесниться на небосклоне ради новой сестрицы, но это лишило бы нас любимого зрелища... Тогда нам пришлось бы погаснуть со скуки.
— Ясно, здесь потребовался бы краткий и упрощенный (применительно к сиятельной, но необразованной аудитории) семинар по истории свирепого недуга, пароксизмами которого и являются как раз войны. Его микроб живет в подлой страсти к накоплению за счет ближнего. Раньше, когда все было попроще, это называлось кражей, объегориванием, эксамотажем, то есть присвоением чужого добра с помощью ловких манипуляций. Со временем искусство ограбления бедняков попутно с успехами науки и техники доведено было до совершенства, тогда это стало называться капитализмом... Рассказ охватил бы длительный период — от рабства, когда жертву за шею прикрепляли к жернову в подземелье и путем регулярных ударов по голове выколачивали из нее живительный сок, до нынешних картелей и монополий, где прибавочная стоимость отжимается в хорошо проветриваемых заведениях с помощью современных аппаратов экономической дойки. Война, если только это не святая освободительная война, есть лишь ускорение помянутого процесса, в котором человеческая кровь своим ходом перегоняется в желтый неокисляющийся металл о удельным весом 19,32, известный под именем з л а т а, а отходы производства, известные под названием трупы, тут же, на месте, зарываются в землю...
— Значит, этот микроб принадлежит к породе неуловимых вирусов, если люди не могут изобрести фильтр для него? — спросили бы звезды, недоверчиво перемигиваясь.
— Нет,— ответили бы мы,— он виден невооруженным глазом. Некоторые из этих вирусов даже благообразны и почти не отличаются от обычного человека.
— Значит, их — миллионы?
— Нет, их ничтожно мало. Они известны все наперечет. Кроме того, их меньшинство имеет заметную тенденцию к уменьшению, тогда как большинство неуклонно возрастает.
— Значит, из стали их неуязвимые тела?
— Нет, они сделаны из обычного материала. При прямом попадании они пахнут так же, как и их жертвы.
— Но, по крайней мере, они дрожат перед Грядущим?
— Да.
Мы поведали бы эту грустную земную повесть без риска потерять уважение слушателей, потому что один, довольно внушительный, кусок земли людям удалось стерилизовать от постыдного микроба. Сверху мы указали бы звездам на обширную страну, где творческое большинство решилось не только
добиться справедливого распределения житейских благ, но и установить в собственной державе порядок, за который не было бы стыдно перед звездами. Для этого ему потребовалось перестроить все, от соотношения движущих страстей в человеческом характере до своей экономической географии. Ему пришлось заменить диктатурой тружеников те социальные системы, в которых предоставляется решению изменника — предавать или не предавать, и красть или не красть — выбору вора. Нужно было сконцентрировать невещественные мечтания людей о правде в плотный и узкий луч, в котором замертво падала нечисть и досрочно распускалась яблоня. Этому творческому большинству предстояло идти по неизведанной тропе, без права ошибаться в маршруте; священная задача — охранить от натиска варваров хрупкую и беззащитную красоту мира — легла на их плечи и волю, они выполнили ее, потому что это были единая воля и одно плечо... Эти люди — мы. Слушайте про нас, звезды!
Итак, мы родились в непогодную ноябрьскую ночь. Не в благостных рождественских яслях и не из пены морской, — из рабочего, из солдатского, из народного гнева родились мы. Нам предшествовали бури и умные книги, где научно была предсказана эта всенародная ярость против нерадивых и бесчестных хозяев земли. Растерзанная родина лежала перед нами, как улика. Черный снег валился на незасеянные поля, бедняки копошились в развалинах. Кроме нас, никто не поднял голоса в осуждение бесцельной скверности происшедшего. Версальские посланцы держав, из которых каждая имела по пуле в животе, условились считать, что дешево отделались от кровопролитного припадка... Потом все занялись неотложными делами: отборные представители людского племени тлели в земле, отборные подонки наций считали сверхприбыли от удачного побоища. Во утешение от скорбей человечеству был выдан фокстрот, этот общедоступный моцион для ожиревших и простреленных. Мир предавался забвенью,— виду психологической анестезии, под которой людскую молодость веками водят от эшафота к эшафоту.
Но народы России не забыли ничего. Причина лежала не в прочности памяти, а в устройстве их совести. Предать забвению сиротские слезы, бессмысленно растраченную силу, попусту загубленных богатырей — означало бы вообще предать их. Еще большим преступлением было бы, зная периодичность безумия, не подумать о том, как отвратить от неминуемого зла идущие на смену поколения. Стыдно взрослым выпускать детишек в заминированный мир, раздавать им яблочки, приправленные ядком... Вот почему эти люди не страшатся приговора потомков,— они поймут суровый и безжалобный подвиг отцов! Но это теперь мы движемся вперед, оснащенные всем для великих свершений, пугая врагов стройностью наших колонн; это теперь, велением вождя, миллионы моторов влекут вперед наши мирные и боевые машины, а тогда лишь добрый крестьянский конек да песенная дерзость вынесли наши тачанки в раздолья отвоеванной родины. Свой поиск счастья мы начинали с предельной скудости... Вот почему первая мысль в нашем новогоднем молчании посвящена тем сотоварищам нашим, которые еще неумелыми, порой обмороженными руками возжигали кремлевские звезды. Мы не хоронили их в могилах неизвестных солдат, не громоздили на них горы железобетона, как это делают на просвещенном Западе, чтобы не вылезли на свет тряхануть за рожища золотого тельца, чтоб не пришлось расстреливать их вторично. Наши герои живут вечно среди своей советской родни: они помогают передовикам Запорожстали скорее завершить вторую очередь и ставропольскому хлеборобу — собрать рекордный урожай...
Все, совершенное этими людьми за короткую и фантастически обильную содержанием жизнь, имело целью, в первую очередь, преображение людского уклада в их собственной стране. Никто не вправе воспретить нам сочувствие к простодушным жертвам капитализма или, скажем, к тому нерасторопному негру, которого средь бела дня лупят сапогами в пах на людной уличке Иоганнесбурга... но их освобождение есть дело их собственных рук. Привычки к боли не бывает, и жизнь сама найдет способы охранить себя от гибели... Правда, Октябрьская революция прочертила границу двух разноименных миров, и на этой меже уже не поставишь жандарма с семизарядным пистолетом. Она прошла прямо по человеческим сердцам, потому что всюду найдутся (как они нашлись уже в Европе) и труженики, не желающие быть нолями, которые делец приставит справа к своим дивидендам, и матери, которым жалко отдавать своих крошек, когда у крошек подрастут усы, на засыпку артиллерийских воронок. Пусть наиболее благополучные из них по-детски забывают нас в периоды кратковременных просперити; капиталистическая экономика в любую минуту напоминает крупнокалиберную обойму, заряженную впрок десятком обстоятельных кризисов и войн. И всякий раз, брошенные в волчью яму очередной катастрофы, истинные кормильцы планеты с возрастающей надеждой будут обращать в нашу сторону свои заплаканные лица...
Ни одна честная душа не сможет возразить против идей, которые защищает наша держава. Да, нам действительно не нравятся неправедные богатства и постыдным кажется всяческий эскамотаж, независимо от того, производится он с откусыванием головы или без оного. Да, нам не совсем понятно, почему одно и то же гангстерство приводит в одном случае — к электрическому стулу и к сенаторскому креслу — в другом. Да, нам было бы радостно видеть на земле единую трудовую семью, без чего немыслимо укрощение могущественных стихий. Да, мы стремимся к созданию прижизненного совершенного человеческого общества, о чем лишь мечтали утописты и всякие моральные реформаторы... Однако мы не замышляем крестовых походов во утверждение своего догмата, не высаживаем десантов на чужих берегах, не строим воздушных баз под носом у инакомыслящих.
Вот наши дела и вера,— все остальное определяется враждебностью среды, в которой мы оказались с первой же минуты нашего возникновения,— обратимся к назидательным воспоминаниям младости. Вначале над нами смеялись, когда голодные и рваные рабочие и мужики России задумали жить по-новому. Через год, ради установления личного знакомства, к нам прибыли уполномоченные старого мира. Они пришли в Россию, в дни ее светлейшего утра, не с букетами, скажем, заграничных цветов, а имея в руках нечто даже в высшей степени наоборот. Это были те самые адские псы с человеческими головами, которые еще в античных сказках стерегли доступ к сокровищу (находившемуся, кстати, на нашей территории). С понятной неприязнью мы встретили таких гостей и выставили им железное угощение. Все годы, пока мы строились и крепли, они неотступно следовали по нашим пятам, становились на дыбки, выражались нехорошими словами, пускались в открытые атаки, так что приходилось урезонивать их сокрушительными доводами. Вначале их было четырнадцать, этих активистов, но редело их число и к концу тридцатилетнего знакомства в любителях открытых атак остались лишь маститые ветераны ненависти к новой России.
Когда рассеялся дым войны, стало ясно, что фашистское нашествие на Восток было их самой решительной атакой; даже школьники разгадали кунктаторские махинации со вторым фронтом как намеренное продление сроков, чтоб побольше вытекло советской крови. Не о народах речь. Наши солдаты с теплой улыбкой вспомнят отважных зарубежных летчиков, танкистов, пехотинцев, помогавших нам привести гитлеризм в щепообразное состояние.
О тех речь, кому для равновесия сил хотелось бы сохранить истребительный германский механизм (которые и Гитлера-то презирали тем особым презрением, каким награждают палача, потерпевшего фиаско при наличии столь отточенного, инструмента). Но слишком уж распалился аппетит чудовища в той большой еде, слишком потрясена была совесть народов,— и вот к ногам человечества выкинут труп нюрнбергской собаки!.. Вторично на нашем веку была обращена в руины всечеловеческая мечта о покое, и снова скорбные преждевременные старухи раздувают искры жизни в растоптанных очагах.
Но теперь это уже не судейская улика на человеческом пергаменте, а историческое доказательство правоты наших неоднократных предупреждений человечеству.
Фашизм не убит, он уполз в другую нору, — и пусть свободолюбивые народы пошарят у себя за пазухой! Опять и опять рыжая ведьма крутит свою шарманку. Еще не растворились в земле недавние мертвецы, они еще лежат в разорванных мундирах и сквозь могильный потолок, пустыми глазницами, вопросительно и строго смотрят па вас, звезды, а уже пошла подготовка к новой схватке. Эфир не разрубишь палкой, так плотно он загружен обвинительными иеремиадами против Советского Союза. Слова сливаются в свист, в черную метель науськивания и шантажа. Можно различить голоса дикторов, без энтузиазма выполняющих свой тоскливый радиоджоб (они тоже станут самоходными солдатскими мишенями капитализма), слышны также голоса атаманов, они говорят о попранных правах меньшинства (с солидной чековой книжкой), они еще хвастаются своим сомнительным просперити, хотя какова же ему цена, если периодически такую пиявку, как Гитлер, надо ставить к затылку мира, чтоб отсосал пятьдесят миллионов жизней — и уцелевшие получили бы на два года причитающийся рацион... В этом недобром враждебном хоре не слыхать голосов твоих простых людей, Запад. Мы спокойны за них. Они не обвинят белорусского колхозника и уральского доменщика в намерении оккупировать Манхеттен, перевезти Лабрадор в сибирскую тайгу и предписать баптистам из Канзаса в трехдневный срок обучиться игре на балалайке...
Понимая истинную суть этой незамысловатой игры, указанные белорусский колхозник и доменщик с Урала говорят своим старым знакомцам:
— Не трогайте нас, это сопряжено с ненужными и обоюдными последствиями. У нас много своих, насущных забот, но, сердясь, мы забываем все, включая жизнь. Горе подъявшему меч, два горя замыслившему потушить огонь жизни. В минувшей войне старый мир бросил против нас самое сильное и злое, что нашлось в его распоряжении. То была не только проба армейской прочности, но, прежде всего, жизненной устойчивости двух политических систем, война потенциалов. И оказалось, что сила наша - гибче, мужчины - храбрей, женщины - трудолюбивей, воля - железней, и острей наш государственный разум. Социалистическая индустрия предназначена для преображения принадлежащего нам куска земного шара, но она поражает насмерть при неосторожном прикосновении чужой руки...
Без всякого сомнения в правоте своих тридцатилетних усилий мы смотрим на звезды в эту ночь. Советская страна честно прожила эти годы: не промышляла кровью слабейших, не торговала совестью, не обогащалась засчет людской темноты. Не черным мешком рисуется нам будущее, а вереницей прекрасных зал, из которых каждая чудесней предыдущих. Там, в конце их — осуществленная мечта. Не бойтесь, небесные старожилы, вам не придется чахнуть от тоски в обезлюдевшей вселенной, — кремлевские звезды сродни вам... Пусть небо наполнится огнями радости и подобающим напитком наша круговая чарка!
1947
Величавая слава
Когда Европа, растоптанная и поруганная фашизмом, думает о своей судьбе,— кнут поработителя или торжество правды предстоят ее потомкам,— она вспоминает о нас. Тогда в слезах отчаяния она обращает глаза к востоку, к Красной Армии. Вдовы и сироты трепетно вслушиваются в громовой голос ее артиллерии и танков; по географическим обозначениям ее побед они высчитывают сроки своего освобождения. Для многих это завтра наступит слишком поздно, а сегодня только она одна, Красная Армия наша, в полную силу бьется с мрачным и подлым злодейством.
Море крови, в котором мир стоит сейчас по горло, обязывает его к справедливым оценкам людей и явлений. На своем страшном опыте он узнал, что фашизм есть смерть наций, гибель жизни и крушение культур; пропись перестает быть банальностью, когда она написана кровью по живому мясу. И потому все нынче в могучей руке твоей, советский воин: смех детей и мудрые дары паук, цветенье садов и блистательные свершения искусств. Слава твоя величавей славы знаменитейших людей прошлых веков. Ибо величие состоит не только в том, чтобы создать сокровище, но и в том, чтоб грудью отстоять его в беде, не выдать его на потеху дикарю.
Множество великих имен мы подарили миру. Там были мечтатели и подвижники, люди глубочайшего социального прозренья, планировщики вселенной, разгадчики материи, строители и поэты. И слишком много полновесного зерна мы всыпали сами в закрома культуры, чтоб ставить урожай будущих веков под угрозу нового Аттилы и его вооруженных хулиганов. Мы всегда ясно понимали, в какую эпоху человеческого развития мы призваны творить и строить, и оттого с самого начала не было у нас ничего дороже Красной Армии нашей. Единство советского народа, о котором мы так часто и с гордостью говорим, отразилось прежде всего в единой любви к этому стройному созданию двух великих отцов нашего народа. Все лучшие качества наши заключены там. Армия наша — воин с обнаженным мечом у источника жизни.
Она выросла на глазах нашего поколения, и мы по справедливости гордимся, что сами прошли ее суровую школу в годы гражданской воины. Но какой громадный путь — от легендарной, рассекающей пространства, лихой конницы Ворошилова и Буденного до гвардейских танковых соединений Ротмистрова и Рыбалко. Как расширилась эта тесная вначале семья героев, полководцев и рядовых ее солдат. Зигзагами, точно ходом молнии, пройдена взад и вперед вся страна, и везде, в каждом безвестном полюшке было пролито по бесценной рабоче-крестьянской кровинке, и поэтому трижды дорога она нам, родная земля... Как выросли ее подвиги, ее техника, ее знания! От Перекопа до Сталинграда, от тачанок до самоходных пушек и гвардейских минометов, от разгрома интервенции до побед над внуками Шлиффена и Клаузевица, этими профессорами научного империалистического грабежа! Честь такого неслыханного пути делят отвага и труд советских людей, их самоотверженность и преданность идее.
И когда вчера шесть знаменитых наших городов салютовали в честь Красной Армии, они салютовали тем самым народу, вверившему ей свои лучшие чаяния, свое достояние и самых сильных своих сыновей.
У всякого народа есть дорогие имена прозорливых вождей и песенных героев. В них он вкладывает простое и мудрое содержание, не требующее толкований, наделяет их страстной и суровой нежностью и всеми совершенствами, накопленными в веках. Когда беда ломится в ворота нации, ее дети объединяются вокруг этих имен, орлята во множестве нарождаются в народной гуще, и стаи их обрушиваются на врага. И тогда горе врагу, его матерям и обманутым его воинам, горе его убогим вожакам, обнажившим меч неразумной и неправедной войны. И светлая слава отцу наших молодых орлят, создателю мощи нашей, который смотрит за горизонты и видит то, чего не дано видеть всем!
И вот армия наша с молчаливым гневом идет на запад. Бывалые солдаты ее говорят: ты хотел нас взять напугом, Гитлер, но не вышел твой блиц-испуг. Зато вот мы тебя теперь попугаем!.. И еще говорят ветераны, сжав зубы, что все бывшее ранее — только присказка, а самая сказка еще впереди, когда начнет крошиться и лететь кусками хваленая и перехваленная немецкая сталь. Эти люди сдержат свое солдатское слово. И когда они ступят на почву Германии, рухнет фашистский притон, и под обломками его погибнет пруссачество. И чем чернее будет траур в Берлине, тем светлее солнце над Европой. Близится час окончательной расплаты с гитлеровцами за все их злодеяния.
Будет день, когда Гитлер ступит на эшафот, если только не свалит его раньше, не придушит где-нибудь в бомбоубежище благоразумие германского народа. Он увидит вокруг себя ужасную, обугленную Европу и, оглядевшись, содрогнется, как задрожала тень его — Лангхельд в Харькове, увидав из окошка петли мерзкие дела своих рук. И пусть он висит долго на деревянном глаголе, этот прилично одетый господин, мастер кнута и душегубок, пока не насытятся взоры его жертв. Потом его сожгут и зароют в землю гадкий серый порошок и постараются забыть, как скверный сон в ночи, длившийся почти полтора десятилетия. Человек опять поднимется из праха, куда его повергла фашистская тирания, и миллионы немцев, вынужденные оставить ремесло разбоя, пусть честным трудом постараются вернуть себе место среди народов.
Мир процветет еще прекрасней, чем раньше; новые ветви брызнут от корней жизни, которую оберегла от фашистского топора бережная рука Красной Армии. Но, уходя все вперед и вперед, к звездам, и оглядываясь назад, человечество долго еще будет видеть в немеркнущем солнце вас, красноармейцы и маршалы, чьи головы гордо возвышаются над нашим грозным, безжалостным и прекрасным веком!
1944
Леонов Леонид Максимович - Собрание сочинений
|