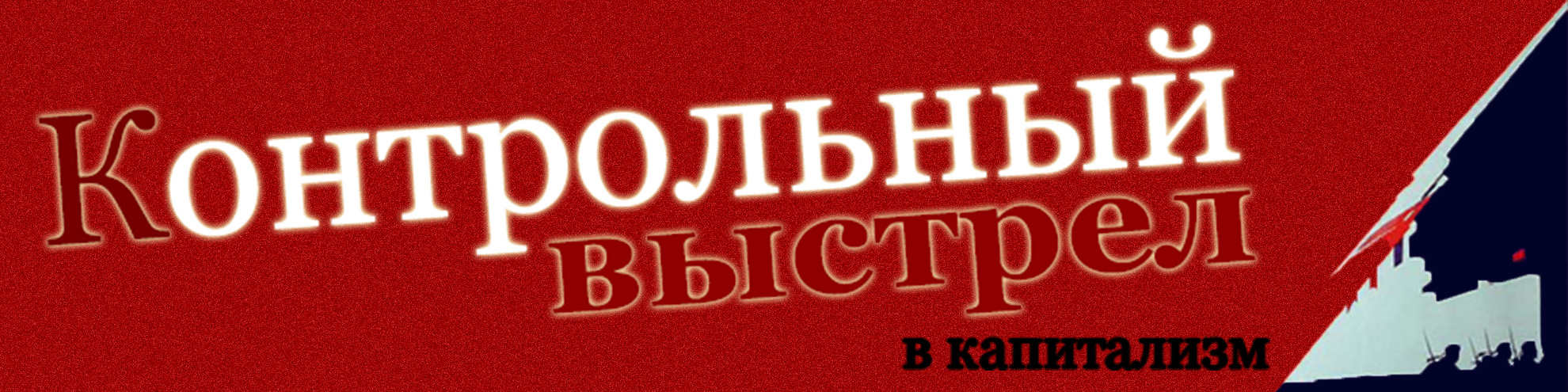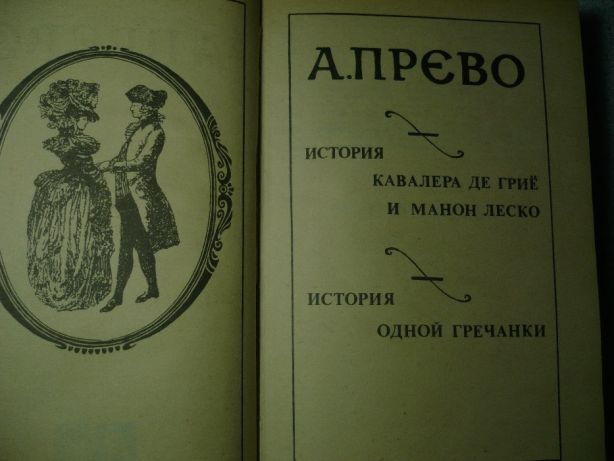
Среди французских писателей XVIII века Прево фигура в высшей степени своеобразная. Он не был профессиональным писателем, только литератором. Сочинение книг было для этого человека одним из многих занятий, которые он перепробовал на своем бурном веку. Монах, солдат, журналист, искатель приключений... О жизни его, запутанной, пестрой, рискованной, можно было бы написать увлекательный роман. Недаром многие страницы «Манон Леско» — это страницы биографии самою Прево. Ей посвящен блестящий о-черк Анатоля Франса. Мы ограничимся здесь лишь теми биографическими сведениями, которые необходимы для правильного понимания «Манон Леско».
Один из зачинателей буржуазной литературы XVIII века, человек, жизнь которого так напоминает авантюры Жиль Блаза, вынужденный, подобно герою Лесажа, пробивать себе дорогу собственным умом и сноровкой, Прево по рождению и воспитанию принадлежал к привилегированным слоям. Отец Прево был королевский прокурор и воспитывал своего сына в духе преклонения перед религией и троном, уважения к существующему режиму. Прево получил образование у иезуитов.
К ак бы далеко от дворянского круга ни отбрасывала иногда Прево его бурная судьба, как бы сильно ни влияли на него идеи английской буржуазной литературы, для пропаганды которой во Франции он отдал столько сил и времени, дворянское общество всегда оставалось для него центром житейского и культурного притяжения. Прево остался в стороне от оппозиционных кругов, от энциклопедистов, правда, выступивших на историческую арену позднее. Напрасно было бы искать в его объемистом литературном наследстве обличительных тенденций и критики современных порядков. Переводчик Ричардсона, Прево был в то же время искренним, усердным составителем тома весьма ортодоксальной истории церкви. Ему абсолютистский режим все еще представлялся естественным ходом вещей, а дворянство— синонимом «порядочного общества», средоточием образованности и чести. Это видно и в «Манон Леско», книге наиболее проникнутой духом века. В отличие от сознательно буржуазных романистов той эпохи — Дефо, Ричардсона— Прево избирает сюжет из аристократического быта и делает своего героя аристократом. При этом положительные качества героев романа, прежде всего самого де Грие — благородство, честь, воспитанность— ставятся в связь с аристократическим происхождением и воспитанием. Недаром «знатный человек», за писавший историю Манон, при встрече с кавалером сразу узнает под бедной одеждой врожденное благородство, дающееся только происхождением. И, наконец, что важнее всего, разрыв кавалера де Грие с аристократическими условностями, его отречение от своего положения и богатства ради девушки неизвестного происхождения никак не вызывают одобрения автора. Прево жалеет своего героя, но не оправдывает его, как легко убедиться из предисловия к повести, нравоучительное значение которой, по мнению Прево, заключается в изображении несчастных последствий нарушения традиционной морали.
И все же популярность «Манон Леско» имела глубокое социальное значение. Успех «Манон Леско» создали читатели из «третьего сословия». Напротив, господствовавший режим встретил эту книгу жестокими преследованиями, признав ее произведением опасным и возмутительным. Подвергнутая цензурному запрещению, снять которое ее автору удалось с большим трудом через много лет, «Манон Леско» распространялась по рукам подпольным образом. Ее печатали за границей и переправляли во Францию как контрабанду.
Что же поставило эту небольшую повесть, далекую от резких обличений феодального строя, от всяких политических выпадов, в один ряд с революционной литературой, с запрещаемыми феодально-церковной цензурой политическими памфлетами и брошюрами?
Дело в том, что объективное содержание «Манон Леско» сильно отличалось от того нравоучения, которое Прево хотел вывести из своего романа. Действительны!0? смысл художественных фактов оказался глубже авторского истолкования. Изображение характеров и действующих лиц у Прево впадает в противоречие с его намерениями; жизненная правда разрывает окостеневшие рамки традиционных понятий. Моралистическая тенденция остается где-то за порогом, у входа в поток событий. Как только Прево приступает к повествованию, его рассуждения подчиняются силе художественно правдивого изображения действительности.
Все несчастья де Грие и Манон происходят от того, что они вступили в столкновение с аристократическими условностями, и в этом столкновении моральная сила оказывается как раз на стороне мнимых «преступников», а не на стороне официальной морали. Разве есть что* нибудь преступное или отталкивающее в характерах Манон и де Грие? Напротив, даже Манон, не говоря уже о де Грие — этом олицетворении благородства, обрисована Прево очень тепло, в самых привлекательных чертах. Ее никак нельзя упрекнуть в корыстолюбии, испорченности, в эгоизме. Она совсем не похожа на исчадие зла, сосуд диавола, какой хотел бы ее изобразить сухой ригорист Тиберж. Любовь двух прекрасных существ вполне естественна, чиста и даже примерна. Что же толкает Манон на любовные проделки, а кавалера — на аферы и шулерство? Это прежде всего — хотя, как мы увидим, это и не единственная причина — сословные предрассудки, запрещающие аристократу вступать в брак с женщиной из простонародья. «Мораль» и «разум», к которым апеллируют отец кавалера и Тиберж против «безнравственной», «безрассудной» страсти, с ясностью обнаруживают свой кастово-эгоистический, безнравственный, противоестественный характер. Эти проповедники добродетели оказываются на деле бесчеловечными преступниками, толкающими к гибели двух ни в чем не повинных людей, которые проходят через роман как носители искренних, ярких чувств. Перед внутренней правотой и величием их страсти какими черствыми и низкими выглядят благочестивые увещания Тибержа и самоупоенное негодование отца де Грие. Таким образом, повесть Прево прозвучала как гимн могучей силе естественных чувств, разрушающих узкие, искусственные сословные перегородки, как красноречивое обличение аристократических предрассудков. Феодальная цензура в таком смысле и истолковала повесть Прево, запретив книгу. Так же поняли книгу, и правильно поняли, оппозиционно настроенные буржуазные читатели.
Это несоответствие между почтительным отношением самого Прево к старому обществу и объективно отрицательным художественным его изображением, отражавшее незрелость буржуазного самосознания в первые десятилетия XVIII века, сильно повлияло на дальнейшую судьбу «Манон Леско». Когда позднее, во второй половине века, буржуазные классы достигают гораздо более высокого уровня политической зрелости и в их рядах крепнут уже оппозиционные настроения, Прево, точно так же, как и другие ранние буржуазные писатели, перестает удовлетворять изменившимся, гораздо более решительным требованиям.
Несмотря на свою громадную популярность, «Манон Леско» не попала в число образцов, возносимых на щит революционной критикой XVIII века. Прево был отнесен к числу второстепенных писателей, более приятных, чем полезных. Руководители просветительного движения не признавали в Прево вполне своего человека. Для такой оценки «Манон Леско» просветители имели существенные основания. Многие черты повести Прево ставили ее в стороне от общей линии развития буржуазной литературы XVIII века, отводя ей своеобразное место.
Просветители требовали от художественного произведения не только критики сословного строя, но и выдвижения известных положительных образцов, прославления новых буржуазных идеалов. С этой точки зрения «Манон Леско» не могла их вполне удовлетворить. Авторская тенденция самого Прево резко противоречила новым взглядам на мораль. Она была пропитана обветшалыми, узкими дворянскими понятиями. Манон же никак не являла собой образец, достойный подражания с точки зрения буржуазных семейных добродетелей. Наконец — и это самое главное — самое изображение механизма человеческой психологии у Прево расходилось с обычным просветительским ее толкованием. Произведение Прево оказалось одновременно не только ниже среднего уровня просветительной литературы, но и выше его некоторыми своими сторонами.
В своих взглядах на законы поведения и психологию человека просветители были безусловными рационалистами. Кристальная ясность душевной жизни, разумная мотивированность, самоотчетность каждого поступка, чувства, мысли, полный контроль над каждым душевным движением — таково должно было быть, по их мнению, естественное состояние человеческой психологии. Зло абсолютно противоположно добру, порок — невинности. Но это представление оказалось абстракцией, идеалистически упрощавшей действительное положение вещей. Буржуазное развитие вызвало к жизни невиданно запутанную, сложную, противоречивую психологию, перед которой буржуазный рассудок, формальнологический анализ оказался бессильным.
Прево в значительной степени отклонился от этих взглядов. Его отдаленность от зрелого просветительского движения сузила его горизонт, но зато и предохранила его от многих просветительских иллюзий. Несомненное влияние «аналитического» направления придворной литературы (м-м Лафайет, Ларошфуко, Лабрюйер, отчасти Расин) оказалось для него во многих отношениях не только отрицательным, но и благотворным. От этих писателей в значительной степени унаследовал Прево трезвость, тонкость психологического анализа, скептическое отношение к метафизической незыблемости добра и зла, так выгодно отличавшие его от большинства буржуазных нравоучительных романов и драм XVIII века, с их прекраснодушной ходульностью. Это значительное различие между Прево и общим направлением просветительской литературы ярко сказывается в трактовке образа «погибшей женщины».
Просветительная литература часто выводила на сцену «падшие создания» с целью их реабилитации. Она видела в них жертвы сословного угнетения. Соединение противоположных крайностей — порока и добродетели, разврата и невинности, — таким образом, было уже выдвинуто на сцену. Но это было чисто внешнее, механическое соединение, нисколько не нарушавшее абсолютной обособленности добра и зла. «Падение» изображалось как следствие внешних, социальных условий, не затрагивающее внутренней чистоты. Прево нарушает этот канон просветительной литературы.
Не только сословные предрассудки, внешние пре* пятствия разрушили счастье двух влюбленных, но и внутренние причины — характер самой Манон, неуловимый и причудливый, сотканный из противоречий и загадок. Прево как художника интересует не борьба добра со злом, а неуловимое их слияние. Его занимает характер, в котором нельзя отделить пороки от добродетелей. Постоянная и ветреная, преданная и вероломная, целомудренная и продажная, простодушная и лукавая — кто такая Манон? Чудовище разврата и испорченности или сама невинность и чистота, уличная девка или ангел? Над этими вопросами ломает голову бедный де Грие. К Манон неприложимы те обычные мерки, критерии формальнорассудочной морали, которыми он привык пользоваться. Для кавалера, воспитанного в рационалистическом духе XVIII века, характер Манон представляется противоречащим всем законам природы, аномалией, наваждением. Столь же противоестественной и необъяснимой кажется ему и собственная страсть, которую осуждают его разум и совесть — страсть к женщине, которую он считает падшей и недостойной. И, конечно, с точки зрения понятий XVIII века, характер Манон был необъясним, ибо истинные причины формирования человеческой психологии были еще скрыты от взора мыслителей той эпохи, оставшихся в общественных вопросах идеалистами. А между тем характер Манон — не игра природы, но порождение совершенно определенных исторических условий, без которых он не мог бы возникнуть. Уничтожая всяческие остатки патриархальной безличности, столь сильные еще и в античном мире и в эпоху средневековья, буржуазная цивилизация превращает обычное половое влечение в индивидуализированную страсть, любовь. Но этот «величайший нрав- ственный прогресс»1 двойственен, как и все, что исходит от буржуазной цивилизации. Развивая индивидуальную- половую любовь, она, вместе с тем, искажает ее, ибо, развивая свободу чувства, отстаивая право каждого человека располагать своей душой и телом, буржуазная цивилизация превращает эту свободу в свободу мнимую, формальную, подчиняя человека гнету «чистогана». Поэтому буржуазное общество не только не уничтожает первобытной грубости отношений между полами, ног напротив, усиливает ее, придает ей грязный и отвратительный характер, превращая женское тело в специфический товар. Параллельно развитию индивидуальной половой любви идет развитие проституции как общественно узаконенного явления. Отражение этой двойственности в буржуазном сознании и создает то представление о любви, как «бесплотном», «неземном» чувстве, совершенно чуждом «эгоистическому», «низменному» чувственному влечению, то противопоставление плоти и духа, которое так характерно для нового времени. И как раз- в этой мнимой «возвышенности» буржуазного идеала- любви уже заключается признание его неосуществимости, фактическое оправдание грязи буржуазной действительности. Эта-то реальная диалектика «любви небесной» и< «любви земной» воплощена в отношениях де Грие и Манон Леско друг к другу и к окружающим их людям. Если любовь не есть простое чувственное вожделение, а нечто высшее, как полагает де Грие и Манон вместе с ним, то оттого, что телесная близость превращается в- средство заработка, возвышенное чувство не умаляется нисколько в своих правах: отдаваться другим еще не значит любить их, изменять любимому человеку. Так рассуждает Манон, искренне недоумевая, почему она заставляет столь сильно страдать от этого де Грие. Ей кажется, что она ничем не оскорбляет его и свои:
собственные высокие представления о любви. В самом деле, поведение Манон противоречит им и в то же время, есть их прямое следствие. Поступки Манон кажутся кавалеру воплощением чудовищного лицемерия, цинизма,, отталкивающей софистики. Но Манон не лицемерна и не цинична; она наивно выражает, сама не понимая этого,. цинизм, лицемерие самой буржуазной действительности, объективную софистику отношений между мужчиной и женщиной в буржуазном обществе. То, что делает .Манон, она видит на каждом шагу и считает это чем-то обычным и нормальным, тогда как кавалеру это представляется чем-то чудовищным и противоестественным.
Его взгляды на любовь и его поступки — это выражение того, как представлялись новые человеческие взаимоотношения самим новым людям, людям XVIII века, которые еще могли питать розовые иллюзии относительно их характера. Поступки же Манон — это выражение действительного характера этих отношений. Таким образом, Прево первый в XVIII веке открыл «иррациональную», необъяснимую, с точки зрения буржуазного рассудка, сторону новой психологии, создаваемой развивающимся буржуазным обществом. Прево можно считать истинным родоначальником и предшественником литературы о «ночной стороне души», игравшей столь важную роль в XIX веке, начиная от романтиков :и кончая Достоевским и его бесчисленными эпигонами в XX веке. Это открытие не могло быть как следует понятым в XVIII веке. Его оценили только впоследствии. Как раз романтики были первыми, кто поднял на щит повесть Прево. Образ Манон стал любимым образом в романтико-символистской философии любви от Бреи- тано до Верлена и Блока.
Романтики и психологические романисты XIX века далеко оставили за собой Прево в смысле глубины и «обстоятельности анализа «ночных сторон» буржуазного сознания. Сам Прево еще не понял всей важности открытых им психологических фактов. Характер Манон и страсть де Грие представляются ему случайностью, капризом природы, но не проявлением некоторых типических процессов. Прево сам еще находится во власти рационалистических представлений XVIII века о психологии. С их помощью он пытается найти ключ к характеру Манон и установить рациональные мотивы ее поступков. Как истый сын эпохи Ламеттри и энциклопедистов, Прево старается объяснить психологию Манон с точки зрения чувственной, телесной механики человеческих страстей — жаждой утех, роскоши, развлечений и тому подобными .проявлениями «естественного» человеческого эгоизма. Но Прево чувствует, что это объяснение несостоятельно. Разум де Грие — alter ego самого автора — велит ему видеть в Манон обыкновенную жрицу любви, чувство же подсказывает ему, что прелестная, благородная Манон на нее вовсе не похожа. И вот Прево, как и де Грие, останавливается в скорбном недоумении перед загадками человеческого сердца, превосходящими его понимание. В повести Прево уже намечаются зачатки романтического умонастроения с его преклонением перед стихийным и бессознательным.
Но как бы ни был несовершенен рационалистический метод Прево по сравнению с освещением этих проблем в последующей буржуазной литературе, он вместе с тем дает Прево ряд важных преимуществ перед ней. Изображение психологических явлений, свойственных скорее буржуазному XIX веку, сквозь призму понятий XVIII века, как это происходит у Прево, имело свои своеобразные и выдающиеся достоинства.
Прево совершенно чужда идеалистическая мистификация реальных процессов, возраставшая в последующем литературном развитии вместе с углублением в темные сферы буржуазной психологии. Истерический страх перед «непознаваемым», чертовщина, патология, мистическая духота, столь отталкивающе действующие на нас в романтических сочинениях, совершенно отсутствуют в повести Прево.
Прево — трезвый реалист, ищущий материальных причин для объяснения изображаемых событий и характеров. Он стремится вскрыть их естественную логику. Как раз благодаря своему рационализму Прево достигает необычайной ясности, последовательности и стройности повествования, изумительно точного и вместе с тем тонкого, расчлененного до мельчайших деталей психологического рисунка. Достоинства манеры Прево особенно ясно выступают в портрете Манон. Как легко было бы здесь сбиться или на грубую натуралистическую жесткость красок, или на пустую их бестелесность. Но Прево великолепно справляется со всеми чрезвычайными трудностями своего замысла. Неуловимый облик Манон, переливающийся тончайшими оттенками, создан Прево очень определенными, строго реалистическими, точными, пожалуй даже сухими, чертами. Органическое соединение кристальной ясности образов и радужной их изменчивости, геометрической уравновешенности композиции и трепетной зыбкости красок, рассудочности и мягкого лиризма, составляющее неповторимое своеобразие художественной манеры Прево, позволило ему создать образ глубоко правдивый и вместе с тем глубоко грациозный и поэтический.
Эта-то высокая поэтичность повести Прево — черта всякого истинно реалистического произведения — и сохраняет живое впечатляющее значение «Манон Леско» и для нас, для которых эпоха Прево, ее люди, события, дела и волнения — давно умершее прошлое.
В. Р. Гриб
|